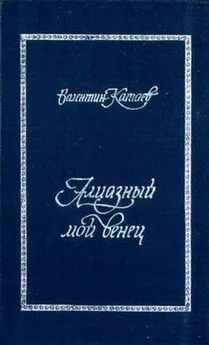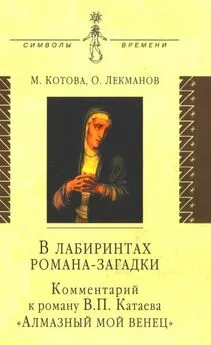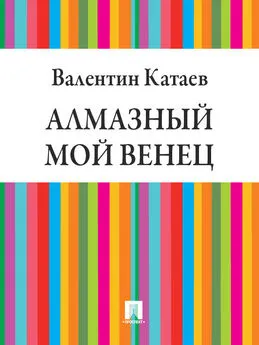Валентин Катаев - Алмазный мой венец (с подробным комментарием)
- Название:Алмазный мой венец (с подробным комментарием)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Катаев - Алмазный мой венец (с подробным комментарием) краткое содержание
«Алмазный мой венец» — роман-загадка, именуемый поклонниками мемуаров В. П. Катаева «Алмазный мой кроссворд», вызвал ожесточенные споры с момента первой публикации. Споры не утихают до сих пор.
Это издание включает первый подробный научный комментарий к «роману с ключом».
Авторы комментария пытаются разрешить споры вокруг романа, не ограничиваясь объяснениями «темных» эпизодов. Они тщательно воссоздают литературно-бытовую обстановку 1920-1930-х гг. в СССР и, распутывая хитросплетения романа, привлекают множество архивных, газетных и малоизвестных мемуарных источников.
Комментарий: Олег Лекманов, Мария Рейкина, при участии Леонида Видгофа.
Алмазный мой венец (с подробным комментарием) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
692
На Елене Сергеевне Шиловской (1893–1970) М. Булгаков женился 4.10.1932 г., а в феврале 1934 г. они переехали в писательский дом № 3 в Нащокинском переулке, где поселились в кв. № 44. В письме к В. В. Вересаеву от 6.03.1934 г. Булгаков с восторгом, но и с обычной своей иронией рассказывал о новой квартире: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. <���…> Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. <���…> Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака <���…> но все же я счастлив». [795]
693
Ср. с описанием одной из последних встреч М. Булгакова с К. из дневника Е. С. Булгаковой (запись от 25.3.1939 г.): «Вчера пошли вечером в Клуб актера на Тверской <���…> Все было хорошо, за исключением финала. Пьяный Катаев сел, никем не прошенный к столу, Пете сказал, что он написал барахло, а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актер, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. — „Валя, вы жопа“. Катаев ушел мрачный, не прощаясь». [796]В сентябре 1939 г. Булгакову был поставлен страшный диагноз — гипертонический нефросклероз. В заключении врачебного консилиума от 12.11.1939 г. было сказано: «Гражданин Булгаков М. А. страдает начальной стадией артериосклероза почек при явлениях артериальной гипертонии». [797]Врач Булгаков знал о том, что его болезнь неизлечима. 10.10.1939 г. он составил завещание в пользу Е. С. Булгаковой.
694
В дневнике Е. С. Булгаковой нет никаких намеков на стесненное денежное положение семьи Булгаковых в последние годы жизни Михаила Афанасьевича. Напротив, здесь много говорится об ужинах в писательском ресторане, о том, как из театрального буфета Булгаковым присылали икру, сыр, конфеты, яблоки и т. п. [798]
695
Мемуаристы отмечали, что в последние месяцы своей жизни М. Булгаков держался мужественно, но иногда с тоской говорил о том, что умирает. 10.11.1939 г., «проснувшись в 4 часа ночи, он сказал жене: „Чувствую, что умру сегодня“». [799]Ср. также в воспоминаниях А. М. Файко о последнем разговоре с Булгаковым: «„Я умираю, понимаешь?“ Я поднял руки, пытаясь сказать что-то. „Молчи. Не говори трюизмов и пошлостей. Я умираю. Так должно быть — это нормально“» [800]и в письме Булгакова к А. П. Гдешинскому от 28.12.1939 г.: «Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я [из „Барвихи“ — Коммент . ] умирать». [801]Ср., однако, в письме О. С. Бокшанской к своей матери от 28.12.1939 г.: «…Мака-то ничего, держится оживленно, но Люся [Е. С. Булгакова — Коммент . ] страшно изменилась: <���…> в глазах такой трепет, такая грусть». [802]
696
Булгаков умер 10.03.1940 г. Тело его было кремировано. Е. И. Габрилович вспоминал «вынос тела по стертым, узким, надстроечным ступенькам». [803]См. также в мемуарах С. А. Ермолинского, который свидетельствовал, что перед похоронами Булгакова «много народу перебывало в квартире. Меньше всего было литераторов <���…> в те траурные дни заходили попрощаться к нему не только его близкие знакомые, но и неведомо кто, и было тесно в доме. <���…> А когда его гроб перевезли в Союз писателей, оказалось, народу совсем немного. <���…> К вечеру собралось людей побольше. Было тихо. Музыки не было. Он просил, чтобы ее не было». [804]Подробное описание похорон Булгакова можно найти в письмах О. С. Бокшанской своей матери А. А. Нюренберг, но и в них нет упоминаемого К. эпизода. [805]О драматурге Борисе Сергеевиче Ромашове (1895–1958) подробнее см., например, в одной из записей Ю. Олеши. [806]
697
То есть — штопора, похожего на тирбушон (прядь волос, завитую в локон).
698
В том же году, когда состоялась первая публикация «АМВ», в Вене было напечатано обширное исследование: Ziegler R. Aleksej Krucenych als Sprachkritiker // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien, 1978. S. 286–310.
699
Ольгу Всеволодовну Ивинскую (1912–1995).
700
Из поэмы В. Маяковского «Про это» (1923), которую К., как и другие стихи Маяковского, цитирует в «АМВ» на удивление точно.
701
Аллюзия на следующие строки из ст-ния О. Мандельштама «Жизнь упала, как зарница…» (1924): «Есть за куколем дворцовым // И за кипенем садовым // Заресничная страна — // Там ты будешь мне жена. // Выбрав валенки сухие // И тулупы золотые, // Взявшись за руки, вдвоем // Той же улицей пойдем».
702
Неточно цитируется ст-ние О. Мандельштама «Есть иволги в лесах, и гласных долгота…» (1914).
703
Отсылка к следующему фрагменту мандельштамовского эссе «Слово и культура» (1921): «Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело». [807]
704
Из финала мандельштамовского стих. «Декабрист»: «Все перепуталось, и некому сказать, // Что, постепенно холодея, // Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея». Лорелея — дева-сирена Рейна, чаровавшая рыбаков своим пением, а затем губившая их.
705
Морис Шевалье (1888–1972) — знаменитый французский шансонье, выступавший в шляпе канотье. Одна из самых известных его песен называлась «Твист соломенной шляпы».
706
Превращение живого К. в памятник в финале своего произведения будет выглядеть вполне закономерно — и В. Казин, и Л. Славин в момент написания «АМВ» были еще живы.
707
Ср. в ст-нии О. Мандельштама «Медлительнее снежный улей…» (1910): «И если в ледяных алмазах // Струится вечности мороз».
Примечания
1
Уварова И. П., Рогов К. Ю. Семидесятые: хроника культурной жизни // Россия/Russia. Семидесятые как предмет истории русской культуры. М. — Венеция, 1998. Вып. 1(9). С. 71.
2
См.: Липкин С. И. Катаев и Одесса // Знамя. 1997. № 1. С. 217.
3
Литературная газета. 2003. 22–28 января. С. 14.
4
Литературная газета. 1997. 29 января. С. 12
5
Знамя. 2003. № 5. С. 169.
6
Дружба народов. 1979. № 9. С. 238.
7
Там же. С. 249.
8
Вопросы литературы. 1978. № 10. С. 75.
9
Вопросы литературы. 1978. № 12. С. 158.
10
Литературная газета. 1978. 26 июля. С. 4.
11
Октябрь. 1979. № 4. С. 220.
12
Ленинский путь. 1980. 1 марта. С. 4.
13
Знамя. 1980. № 1. С. 236.
14
А. Хворощан. Звенья памяти. Заметки критика // Правда. 1980. 27 января. С. 3.
15
Интервал:
Закладка: