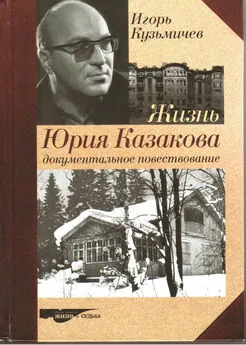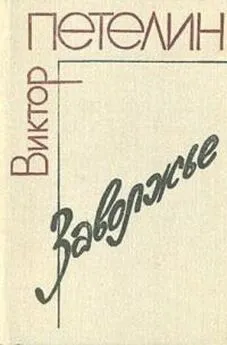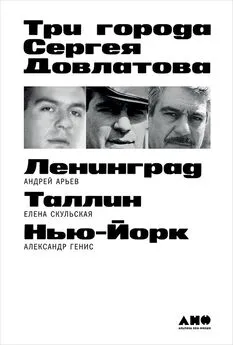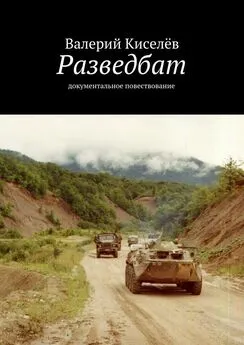Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Журнал Звезда
- Год:2009
- Город:СПб
- ISBN:978-5-7439-0138-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование краткое содержание
Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.
Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот, например, Сергею Судейкину, живописцу, расписавшему «Бродячую собаку», случилось верифицировать свои чувства:
Сильнее ненавижу, чем люблю,
Но в ненависти нежность чую
И в душу темную чужую
Смотрю, как в милую свою.
Эти тонкости никем не воспринимались как откровение по одной простой причине: любой из поэтов «серебряного века» мыслил схоже. Судейкин поэтом не стал. Тем показательнее тематика, прежде всего отразившаяся в одном из немногих его стихотворных опытов.
Или вот Георгий Иванов, в то же время, в том же «Гиперборее»:
Отчаянною злостью
Перекося лицо,
Размахивая тростью,
Он вышел на крыльцо.
....................................
А мог бы быть счастливым,
Веселым болтуном,
Бесчинствовать за пивом.
Не зная об ином.
Стихотворение удачно озаглавлено «Осенний фантом». Единственное его содержание — описание бешенства «непризнанного поэта», противопоставленного решительно ничем его не задевшим «веселым болтунам», прозябающим, по выражению Блока, в «обывательской луже»:
И мчался он, со злостью
Намокший ус крутя, —
Расщепленною тростью
По лужам колотя.
Сверх-«я» Георгия Иванова оказался не Гумилев, а Блок с его «мало словесными книгами». День ото дня Георгия Иванова неудержимо тянуло — и в эмиграции затянуло – от суперсловесной лирики акмеизма в музыкальную стихию символизма в его блоковской модификации — с горьковатой рефлексией в духе Анненского. У Георгия Иванова, говоря словами блоковского доклада, «дело идет о том, о чем всякий художник мечтает, — „сказаться душой без слова", по выражению Фета…» [17]
На практике это означало, что слово в стихе сигнализировало о приближении к некоторым туманным областям сгущенного смысла более, чем указывало на определенную вещь. Поэт как «носитель ритма» устанавливал музыкальную связь («вносил в мир гармонию») между этими немногими колоссальными туманностями. Богатство или бедность лексики, ее затрудненность или облегченность теряли значение, так как все это, естественно, не было самоцелью. Львиная доля словарного запаса уходила на установление приемлемой в фонетическом (музыкальном) плане связи между оставшимся минимумом слов-символов, играюших роль «тяжелых звезд».
С годами все более скупой (не скудный!) словарь Георгия Иванова-поэта (в мемуарной прозе он был иным, знающим толк в чужом говоре писателем) оставил в небрежении «слово как таковое». Метафорические чудеса поэзии, цветущая сложить ее зрелых воплощений его уже не волновали. Зато трогала меланхолия увядания, «последняя простота» соприкосновения небытием: с несбывшимся или навсегда ушедшим.
Дни и недели — из года в год — Георгий Иванов, это избаловавшее себя русской хандрой и мировой поэзией брезгливое дитя «серебряного века», пребывал в лирических созерцаниях:
На западе желтели облака,
Легки, как на гравюре запыленной,
И отблеск серый на воде зеленой
От каждого ложился челнока.
.................................
Сходила ночь, блаженна и легка,
И сумрак золотой сгущался в синий,
И мне казалось: надпись по латыни
Сейчас украсит эти облака.
Это блаженство «нездешних вечеров» с лирой, настроенной по камертону вечерней зари, навеяно Георгию Иванову самой аурой тогдашней поэзии. Культура раскрывала свои древние тайны через вещее величие природы, и сам поэт мог идентифицировать себя, скажем, с Энеем, жить настроениями героя, провидящего разлуку с Троей — Петербургом. Ивановская надпись по латыни читалась по свиткам книжным, как в кузминском «Энее»:
И в запыленном золоте тумана
Звучит трубой лучистой «Pax romana».
Троя для Георгия Иванова, для Ирины Одоевцевой, для Мандельштама и Ахматовой — первообраз, иное, древнейшее наименование Петербурга. В восхищавшей Гумилева строчке Ирины Одоевцевой (ее потом присвоит себе Г. И.) «Построили и разорили Трою…» тягучий раскат многократно повторении звуков «р» — «о» — «и» походит на затихающий гул отдаленной битвы, а в сочетании с согласными «п» — «т» — «р» напоминает о Петербурге — Петрограде.
Ближайший друг Георгия Иванова той поры Георгий Адамович еще в 1919 году, начиная стихотворение строчками о Балтике, заканчивает его Троей: «Тогда от Балтийскою моря / Мы медленно отступали / <���…> / И вдали голубое море /у подножия Трои билось». И через целую эпоху, в 1955 году, пишет Юрию Иваску: «Для меня в слове „Троя" столько всего, что само упоминание о ней — для меня поэзия».
В европейской литературе видение «гордого Илиона», навсегда разоренной Трои служило поводом для поэтических медитаций и художественных аллюзий с тех пор, как она осознала себя литературой. Как Эней у Вергилия, покинув Трою, превратил свою жизнь в подвиг самоотречения, так уехавшие в 1920-е годы на Запад петербургские мыслители и художники провозгласили за границей своим кредо переживания самые возвышенные: «Я не в изгнанье — я в посланье…» Эта дважды повторенная в «Лирической поэме» 1924—1926 годов строчка Нины Берберовой недаром — и постоянно — приписывалась одному из столпов русской диаспоры Мережковскому.
И пусть отплывшие по балтийским волнам «троянцы» нового Рима не основали, свою обреченность на судьбоносное скитальчество они ощутили раньше, чем это происходило с людьми культуры до них — в сходных исторических условиях. Петербург стал для них Троей еще в Петербурге. [18]
В годы красного террора увлечение тонкостью неявных художественных соответствий есть признак окончательного отвращения к современности. Но не есть, конечно, прерогатива Иванова с Кузминым. Всех перещеголял тут автор «Мелкого беса», выпустивший в 1922 году в Петрограде «русские бержереты» — сплошь про амуров:
Румяным утром Лиза, весела,
Проснувшись рано, в лес одна пошла.
Или:
В лугу паслись барашки,
Чуть веял ветерок.
Филис рвала ромашки,
Плела из них венок!
И все же (при всей корпоративной умышленности) попытка преодоления исторической жизни средствами одного лишь «нового трепета» — предмет особых индивидуальных забот и отчасти само содержание лирики Георгия Иванова. Не только пореволюционного.
В культурологическом плане его и на самом деле можно сравнить с Теофилем Готье, напечатавшим первый сборник стихотворений о любви и захватывающих прелестях вещного мира в разгар Июльской революции 1830 года и переиздавшим его в 1832-м — во время холеры. По его заветам, «в часы всеобщей смуты мира» следовало быть олимпийцем на манер Гете.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: