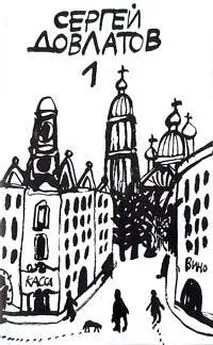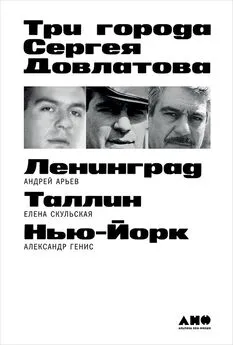Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Журнал Звезда
- Год:2009
- Город:СПб
- ISBN:978-5-7439-0138-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование краткое содержание
Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.
Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По наблюдениям В. Ф. Маркова, в поздних стихах обоих поэтов их несходство выражено доминирующими образами движения — «полета» у Георгия Иванова и «падения» у Ходасевича. Это так же верно, как и то, что автору «Портрета без сходства» было не меньше автора «Европейской ночи» ведомо, куда «погибшее счастье летит», чем людские полеты завершаются:
Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу…
Так все и летело, пока ивановский «Посмертный дневник» не лег рядом с ходасевичевским «Некрополем».
От смерти не спасает, но создает иллюзию от нее отдаления уход в прошлое, в ностальгию. Повышенный градус реминисцентности поздних стихов Георгия Иванова сигнализирует о мере авторского пассеизма. Отдавать предпочтение цитате — это тоже способ жить прошлым. М. Л. Гаспаров, засвидетельствовавший у Георгия Иванова «уклон в томную ностальгию», прав. Подоплека тут все же более серьезная, чем обычная в таких случаях психическая расслабленность. Речь не идет о простом соблазне сопоставления сегодняшнего и канувшего. «Не жалуюсь на судьбу — в Сов. России, разумеется, сгнил бы на Соловках, но к эмиграции привыкнуть не могу, органически чужд», — пишет он 8 августа 1955 года Роману Гулю.
Самое известное из стихотворений Георгия Иванова с «уклоном в томную ностальгию» — «Эмалевый крестик в петлице…» — по сюжету не больше чем умилительная картинка с изображением царской семьи. И все же это описание несчетное количество раз воспроизведенной старой фотографической открытки, этот давно знакомый по ранним стихам поэта экфрасис — одно из лучших стихотворений Георгия Иванова, своего рода «нерукотворное клише», образцовый пример ностальгического жанра:
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны…
В послевоенной Франции у Георгия Иванова остаются только последние желания, только последние слова. Он знает: все слетевшее в гибельную минуту с языка — значительно. Любые обходные пути или рациональные ухищрения обреченного — бесполезны, пошлы, смешны, наконец. «Если надо объяснять, то не надо объяснять» — приведем тут кстати еще один любимый поэтом афоризм Григория Ландау (философ выразился чуть иначе: «Если близкому человеку надо объяснять, то — не надо объяснять», но поэт это выражение постоянно употреблял в приведенной нами редакции).
Перед смертью не надышишься и не наговоришься. Когда вечность при дверях, человечнее говорить о пустяках. Свобода выбора в необратимой беде — это свобода выбора последнего, невыдуманного слова. В отличие от Ходасевича, Георгий Иванов никогда бы не захотел свой «предсмертный стон облечь в отчетливую оду». «Какие красивые у тебя ножки», — вот что сорвалось с его уст перед смертью — в адрес жены.
Одоевцева, очень многое недоговаривая в своих милейших мемуарах, назвала Георгия Иванова «баловнем судьбы». Нужно договорить: он был баловнем судьбы в ее бесчеловечных лапах.
При высокой оценке его стихов известнейшими писателями русского зарубежья слава популярного поэта его миновала. Вот характерный пример. Младший современник Георгия Иванова поэт Владимир Смоленский, находившийся по отношению к старшему, говоря словами Г. П. Федотова из статьи 1942 года «О парижской поэзии», «в той же линии <���…>, но много подальше», «был безусловно самым популярным поэтом послевоенного времени в Париже. Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен». И тот же мемуарист (К. Д. Померанцев) свидетельствует о Георгии Иванове: «Последний вечер в 1956 году в малом зале Русской консерватории в Париже, где он читал свои стихи не собрал даже сорока человек!»
И Померанцев и Смоленский знали истинную цену стихам Георгия Иванова. Смоленский, например, был уверен, что когда-нибудь весь «Портрет без сходства» русские люди будут заучивать наизусть.
Увы, автору этой книги подобные оценки при жизни не пригодились.
5
Поздние стихи Георгия Иванова — это изживание неизживаемой жизнью трагедии. В статье «О парижской поэзии», ссылаясь и на опыт Георгия Иванова, Георгий Федотов заострял вопрос так: «Беспочвенность — несчастье, но только ли несчастье? Не может ли оно быть источником творчества — через гибель, через смерть?»
Очевидно, может — когда с земного поприща ты сходишь сам, а не оказываешься сброшенным в яму двуногими идеалистами. «Мы еще дышим — надолго ли? — блаженным воздухом свободы, хотя и отравлены человеческой глупостью и злобой. А они? Дышат ли вообще? А если дышат, то пишут ли они стихи?»
Федотовская разработка темы, несомненно, сказывается в стихах Георгия Иванова. Его поэтическая формула тотальной беспочвенности существования в современном мире — едва ли не явный ее парафраз:
Туманные проходят годы,
И вперемежку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.
(«Так, занимаясь пустяками…»)
Беспочвенность Георгия Иванова — это и есть его почва. Современный поэт, «дитя ничтожное», равен Гомеру или Сафо, сохранил с ними связь более прочную, чем с соседями и сотрапезниками. «Сыновьям гармонии» изгнание не страшно:
Слепой Гомер и нынешний поэт.
Безвестный, обездоленный изгнаньем.
Хранят один — неугасимый! — свет.
Владеют тем же драгоценным знаньем.
(«Меняется прическа и костюм…»)
«Если бы нужно было сказать о поэзии Г. Иванова буквально в двух-трех словах, <���…> мы бы сказали: это поэзия о внутреннем свете», — чеканно сформулировал Вадим Крейд.
Красиво, но в двух-трех, даже библейских, словах сказать о поэзии Георгия Иванова недостаточно. Христианский прообраз символики света остается в его стихах прообразом. Знал поэт одно, а чувствовал перманентно другое. Может быть, чуждое его природе, но — другое. «Два-три слова» Крейда не истина, а «возвышающий обман». Забывать «низкие истины», говоря о поэзии Георгия Иванова, это значит рассуждать о каком-то другом поэте. Кем-кем, а Аполлоном Майковым Георгий Иванов не был.
Вписываясь в благостную доктрину, суждение Крейда на деле является модификацией суждения Адамовича, ортодоксальным христианином никогда не слывшего. Изысканный друг и обходительный недруг писал о поэте в год его смерти: «…Постараемся забыть отдельные стихи Георгия Иванова, отдельные его строки, — что остается от них в памяти? Не колеблясь, я скажу — свет…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: