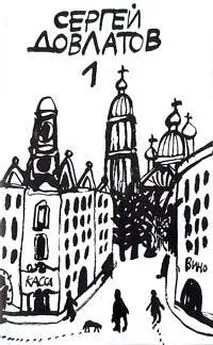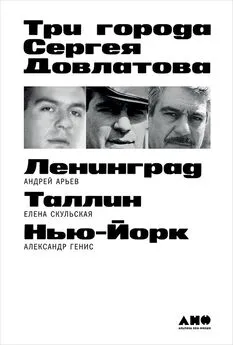Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование
- Название:Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Журнал Звезда
- Год:2009
- Город:СПб
- ISBN:978-5-7439-0138-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Арьев - Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование краткое содержание
Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.
Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если отвлечься от эмоций, то прав был бесхитростный П.К. (видимо, П. Комаров) из Новониколаевска:
«Едва ли можно найти другую книгу, изданную в России в 1922 году, являющуюся более полным органическим и непримиримым отрицанием революции, чем «Лампада». Бледные стихи становятся безупречно-прекрасными, когда поэт воспевает «Антуанетты медальон», портрет крепостника-помещика, «двор Екатерины», «Павловский мундир», «ордена пяти кампаний и голубые обшлага», барскую усадьбу, царский Петербург, с киверами гвардейцев, дворцовой площадью, адмиралтейской иглой, памятником Суворова и французским говором. Как у своей генеральши, у Георгия Иванова „все в прошлом". От настоящего же только тоска и желание бежать в религиозную муть какого-нибудь „скита"…» («Сибирские огни». 1922, № 4, с. 197). Перечень достаточно объективный…
В Берлине только что писавший о «Садах» Ю. В. Офросимов (под инициалами Ю. О.) начинает рецензию на «Лампаду» с очередного обличения. О начальной строфе стихотворения «О, сердце, о, сердце, / Измучилось ты! / Опять тебя тянет / В родные скиты…» Офросимов пишет:
«.. .Мотив этот, может быть, наиболее глубокий, звучит до крайности фальшиво, надуманно. Какие же „родные скиты", если сплошь и рядом, как о родине, пышно восклицает Г. Иванов то об Италии, то о туманной Шотландии? Думается, не в скитах, не в Италии и не в Шотландии родился поэт, „полирующий щеточкой ногти, слушающий старинный полифон" — весь он от прошлого промозглого Петербурга <���…>. Где же, как не в недрах „Бродячих собак", разгуливали такие поэты <���…>. Это, пожалуй, единственное настоящее, вошедшее в плоть и кровь Георгия Иванова. А остальное — искусственно, наиграно. В манерности Г. Иванова — известная искренность, а в искренности — претящая манерность. И даже луна — уж на что просто! — если и всходит у Г. Иванова, то „совсем как у Вердена" — как же иначе у поэта, „томно наигрывающего"? Вот почему не верится даже в его сокровенное — в эти скиты, а вся книжка приобретает характер нарочитой сделанности и, если говорить об этой сделанности — то внешность, форма передана блестяще. Тут и щеголяние рифмами, и трудными размерами, и тонкая стилизация… Все эти достоинства и недостатки очень характерны для той школы, к которой Г. Иванов принадлежит. Но все это удивляло и, может быть, тешило лет шесть — восемь назад. А встретить эту книжку с датой выпуска в 22 году — прямо страшно. Неужели и по сию пору процветает в России поэзия молодых людей с „полированными ногтями"?
„Лампада" — озаглавлены стихи Георгия Иванова, а от заглавия еще больше проступает фальшь книги» («Новая русская книга». 1922, № 7, с. 11—12).
В общем и «красным», и «белым» и «розовым, петербургские книги Георгия Иванова были глубоко чужды, если не отвратны. Что же касается России, то после «Лампады» ни одной рецензии ни на одну из книг поэта на родине он не увидел бы – их просто не было.
Сады (1923)
Второе издание «Садов» появилось в начале 1923 г снятым посвящением Ирине Одоевцевой. Композиция второго издания осталась прежней; в нее лишь добавлено пять новых стихотворений, а три из первого издания во второе не попали.
Рецензировались эти «Сады» уже в эмиграции и в целом благосклоннее, чем в метрополии первое издание. Безымянный рецензент берлинских «Дней» (1923, № 93, 18 февр.), ничего нового в оценку стихов Георгия Иванова не внося, все же начинает писать и о том, что в них важно:
«Стихи Георгия Иванова изысканные, тонкие, кропотливые они напоминают французскую живопись эпохи Лебрена или Ватто. <���…> Если вынести их на площадь, где развеваются огромные пестрые плакаты, то они просто останутся незаметны, т. к. в них нет ничего ни яркого, ни кричащего, ни даже революционного, но и сам автор не поэт площади, не крикун; голос у него небольшой, но кристаллически-чистый. <���…> Автор только наблюдает жизнь не принимая в ней сам почти никакого участия, точно он пришел в большой музей из своего бережно любимого, но игрушечного мира <���…>. Стихи его можно упрекнуть в большой статичности и безжизненности; но в наше время, когда поэты, для достижения динамизма и напряженности, готовы сломить не только метр, но и ритм стиха, когда для усиления впечатления они вместо образов дают метафоры, а для новизны и оригинальности вместо чистой рифмы приблизительную, хочется многое простить Иванову и приветствовать его за то упорство, с которым борется он за чистоту, строгость и простоту стиха».
В ставшем польским городе Ровно А. А. Кондратьев (под псевдонимом) также полагал, что сила поэзии Георгия Иванова не в площадных эффектах:
«Из новых стихотворцев, составляющих ныне „Цех поэтов", наиболее культурным и художественно одаренным является, пожалуй, Георгий Иванов. Правда, произведения его не волнуют наших чувств и не дают ярких и резких зрительных впечатлений. Стихи поэта напоминают порою побледневшие слегка от времени персидские миниатюры. <���…> Георгий Иванов не назовет подобно Мандельштаму, Афину — богинею моря и не скажет, подобно Агнивцеву, политической пошлости. Я помню автора Садов" в дни его юности, когда он находился еще под влиянием Кузмина, что сказывалось не только на стихах, но и на внешности поэта. С тех пор он художественно вырос и впитал в себя много иных плодотворных влияний от Гафиза и Омара Хайяма до Иннокентия Анненского. В произведениях молодого писателя появилась редко прежде заметная светлая грусть. <���…> Георгий Иванов поэт не для толпы; он слишком эстет, слишком образованный и тонкий художник, чтобы быть прославленным ею, а потому мы с уверенностью можем утверждать, что книжка его не будет иметь успеха виршей Маяковского, Кусикова или Есенина» («Волынское слово». 1923, № 491, 29 марта).
Неожиданно все простил (правда, ненадолго) Георгию Иванову за «Сады» Игорь Северянин. В Варшаве он напечатал своего рода мемуар-рецензию «Успехи Жоржа», завершив ее, как у него водилось, непринужденно:
«…Миновало двенадцать лет <���…> Жорж превратился в Георгия, фамилия — в имя, ребенок — в мудреца <���…>. О, милый Жорж, как я рад Вашим успехам! Как доволен, что не обманулся в Вас, что это Вы, мой тоненький кадетик, пишете теперь такие утонченные стихи <���…> в таких садах очаровательного таланта хорошо побродить длительно, погрезить упоительно и сказать приветливо хозяину садов на прощанье те слова, которые я обронил ему более десяти лет назад в своем ответном сонете: „Я помню Вас: Вы нежный и простой"» («За свободу». 1925, № 285,8 ноября. Лит. приложение).
Вереск (1923)
Второе издание «Вереска» вышло в конце 1923 г. в Берлине (в выходных данных: Берлин — Петербург — Москва), с тем же подзаголовком «Вторая книга стихов». Изданию предпослана вступительная заметка:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: