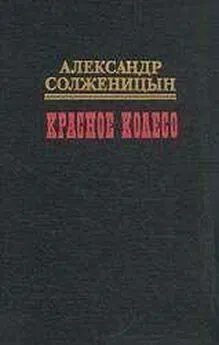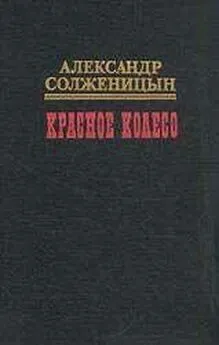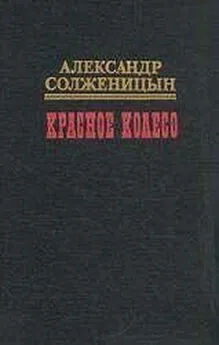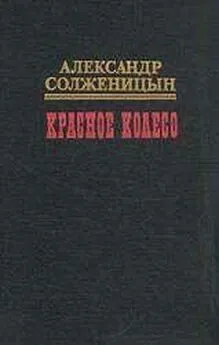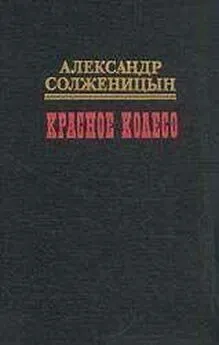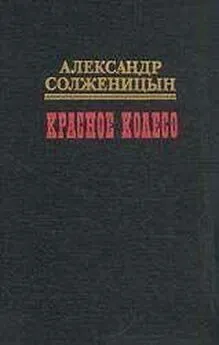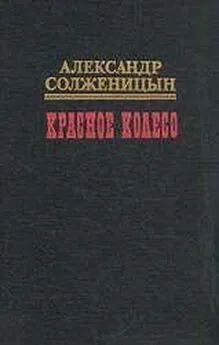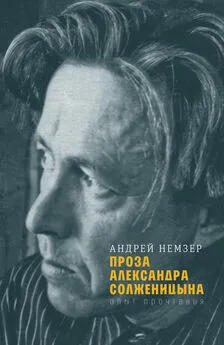Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения
- Название:«Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0506-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения краткое содержание
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов. Для А. Немзера равно важны «исторический» и «личностный» планы солженицынского повествования, постоянное сложное соотношение которых организует смысловое пространство «Красного Колеса». Книга адресована всем читателям, которым хотелось бы войти в поэтический мир «Красного Колеса», почувствовать его многомерность и стройность, проследить движение мысли Солженицына – художника и историка, обдумать те грозные исторические, этические, философские вопросы, что сопутствовали великому писателю в долгие десятилетия непрестанной и вдохновенной работы над «повествованьем в отмеренных сроках», историей о трагическом противоборстве России и революции.
«Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Архаический праздник предполагает, с одной стороны, всеобщее единение (исключение делается для специально назначенных игровых врагов, «козлов отпущения»), с другой же – ритуальные нарушения привычных границ, мену социальных позиций (например, святочное ряжение господ в мужицкое платье, а простолюдинов – в господское), особый характер бытового и речевого поведения. Эти черты в той или иной мере присущи и праздникам нового времени – как церковным (достаточно часто генетически связанным с прежними языческими праздниками и сохраняющим в трансформированном виде их ритуальные особенности), так и государственным. Однако любому празднику в годовом цикле отведено определенное и жестко ограниченное время. Революция (которую образованное общество ожидало десятилетиями, которую уставший от войны и обусловленных войной незнакомыми прежде несправедливостями народ воспринимает как избавление от бед) двояко разрушает календарные установления: она происходит внезапно и не предполагает завершения. Напротив, ее возможный конец воспринимаются инициаторами и деятельными участниками событий не как закономерное возвращение в будни, но как страшное наказание.
Характерно, что узаконенные, предписанные календарем (и соответственно работающие на государственную стабильность) швейцарские празднества вызывают резкую неприязнь Ленина:
Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале <���…> сколько засидевшихся бездельников к тому готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! – половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!
А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой <���…> да можно б и похвастаться этим всем трудом (на празднике ремесленники и крестьяне шествуют с выразительными символами своей успешной работы. – А. Н .), если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. <���…> И опять сотни трубачей и десятки оркестров, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны, – до чего ж резвы они играть в войну, когда не надо шагать на убойную (ср. самочинные парады, которыми изо дня в день тешатся в Петрограде революционные части, желающие избежать отправки на фронт. – А. Н .), а предатели социалпатриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!
(338)В дальнейших рассуждениях Ленина швейцарские праздники увязываются с общим ненавистным ему размеренно буржуазным укладом этой страны. Ленин, в чьем внутреннем монологе закономерно возникает сюжет «образцовой» революции (на роскошных аристократов, которых весело изображают в ходе праздника цюрихские ремесленники, «не хватило <���…> гильотины Великой Французской»), мечтает о совсем другом карнавале, том самом, что уже вовсю развернулся в российской столице.
В разговоре с Андозерской историк Кареев винит во всем случившемся «якобы извечную русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накоплять культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времён России теперь, мол, механически переносятся в Россию новую». «Западнические» суждения Кареева удручают его собеседницу и, разумеется, не разделяются автором, но определенный резон должно усмотреть и в них. В той же главе (несколько выше) сама Ольда размышляет об оскудении монархического чувства:
…А кто мог серьёзно праздновать – 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения – 10 дней в году?
(619)Привычка к праздникам в сочетании с «девальвацией» (смысловым оскудением) официальных торжеств по-своему послужила февральско-мартовскому срыву в безумие.
Парадоксальным образом чем больше революционный праздник подчиняет себе реальность (становясь все страшнее, кровавей и необратимей), тем сильнее он обнаруживает свою игровую (от чего вовсе не менее зловещую) природу. Не одному павловскому прапорщику Андрусову все, что творится вокруг, кажется «каким-то головоломным спектаклем» (121). В повествовании постоянно возникают карнавальные, маскарадные, театральные, цирковые метафоры, не столько измысленные автором, сколько предложенные ему самой историей.
Так, рассказывая о самом начале петроградских волнений, Солженицын знаково упоминает о событии иного сорта, что притягивало 24 февраля рафинированную публику:
…в Александринке среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе, – там собирался весь театральный, и это бы ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днём, – присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы небывало особенного, четыре года готовимого спектакля режиссёра Мейерхольда по лермонтовскому «Маскараду», – так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова.
(15)Внутренний монолог потомственного революционера Саши Ленартовича, презирающего светско-декадентские забавы и раздраженного очередным «ускользанием» возлюбленной, что отправилась на модное «безыдейное» действо, писатель приправляет жесткой иронией. Представление, которое кажется герою оскорбительной несуразицей (ночь обращена в день, режиссер доминирует над автором, собирается в Александринке ненавистное – «призрачное» – общество), происходит одновременно с не менее абсурдным спектаклем уличным, в котором вместе с покинувшим работу «трудящимся народом» азартно «играют» как сверстники-сочувственники Ленартовича, так и иные из «призрачных» (богатых, светских, изысканных) поклонников нового искусства. Хотя Солженицын умалчивает о будущей карьере постановщика «Маскарада», имя Мейерхольда говорит само за себя. «Автор спектакля» (это гордое самоопределение Мейерхольда здесь уже уместно, хотя в оборот оно будет введено позднее), продемонстрировавшего все внешнее великолепие императорского театра (косвенно – самой империи), совсем скоро станет одним из главных «художников революции». Когда ближе к финалу (17 марта – предпоследний день Узла) тройственный союз литераторов-символистов возмущается роскошной «бредовой фантазией» вообще и «безвкусным спуском траурного флёра с розовым венком» в особенности, собеседники не могут уразуметь, что очередное «па» былого «обласканца директора императорских театров», ныне клеймящего с революционных позиций «Мир искусства», вовсе не случайно. Доводя в «Маскараде» до предела изыски имперской культуры и тем самым хороня (быть может, бессознательно) «петербургский период», Мейерхольд уже готов, отдавшись новой силе, «творить новую жизнь» (633). Его «Маскарад» (а не новые революционные пьесы, что обдумываются символистами) парадоксально, но крепко связан с тем грандиозным площадным действом, начало которого совпало с генеральной репетицией в главном театре умирающей империи. Новый – кровавый – маскарад-карнавал-спектакль приходит как мнимое преодоление (но и продолжение) маскарада старого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: