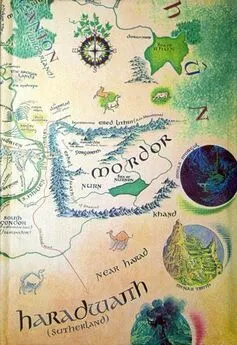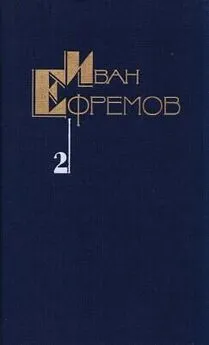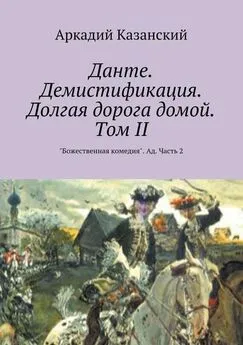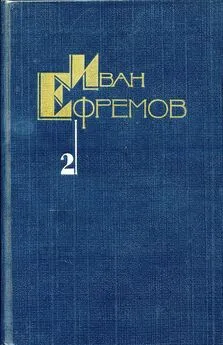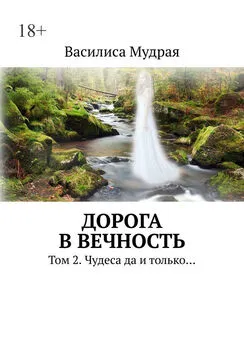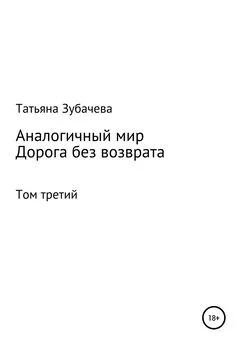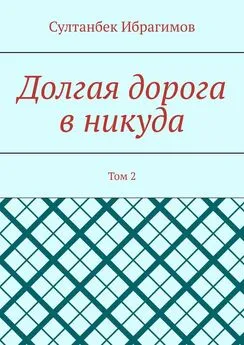Том Шиппи - Дорога в Средьземелье
- Название:Дорога в Средьземелье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лимбус Пресс
- Год:2003
- Город:СПб
- ISBN:5–8370–0181–6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Том Шиппи - Дорога в Средьземелье краткое содержание
Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.
Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.
Впервые на русском языке.
От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.
Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.
Дорога в Средьземелье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «Песне об Эарендиле» рассказывается, конечно, и сама история об Эарендиле — о его попытке достичь подобной Раю страны Бессмертных, о том, как он покинул свой мир, как, при помощи сильмарила, добился в конце концов успеха; о том, как он, благодаря сильмарилу, сделался звездой, или, точнее, рулевым небесного челна, на котором пылает сильмарил, принимаемый обитателями Средьземелья за звезду. Однако в этой истории вопросов больше, чем ответов. Зачем понадобилось Эарендилу это плавание? Что такое сильмарил ? И, главное, как связана эта история со сквозной темой «Властелина Колец» — темой успеха и поражения? Совершенно очевидно, что звезда Эарендила, Светоносец Запада, — символ победы; однако в песне явственно слышно, что она ассоциируется также с утратой и сиротством, с рыдающими женщинами Здешних Берегов. А строки «так далеко от Смертных стран / не правил путь никто еще» могут мимоходом напомнить «неведомую тропу» из хоббичьей дорожной песенки. Эти две песни роднит между собой также и перетекание смыслов — от куража приключений к тоске по дому. В итоге эти два стилистически совершенно непохожих стихотворения оказываются соотнесены друг с другом подобно эльфийским ассонансам В этом заключен намек на некий общий праобразец, благодаря чему как сходство, так и разница между ними выявляются еще заметнее. Песня, сложенная Бильбо в Ривенделле, в целом создает впечатление, что Бильбо постепенно начинает постигать фольклор и поэзию, которые рангом намного выше хоббичьих, да и вообще превышают понимание простых смертных. Примерно пятьюдесятью страницами выше Арагорн поет хоббитам песню о Берене и Лутиэн [316], объясняя им, хотя и без особой охоты, что она написана «по образцу, который у эльфов называется анн–теннат. Ее трудно перевести на наш, Общий Язык. Поэтому то, что вы слышали, — всего лишь грубое, невнятное эхо подлинной песни». «Эхо» — слово в этом контексте полезное, поскольку в некотором смысле эхо и есть принцип, по которому построено стихотворение. В строфике песни Арагорна нет непосредственного сходства с песней Бильбо, но идея «эльфийской» поэзии снова предстает здесь во всей своей удивительной тонкости.
Если говорить коротко, каждая строфа здесь состоит из восьми строчек, которые рифмуются по принципу abac / babe, две половинки строфы скрепляются с помощью сильных трехсложных «женских» рифм типа glimmering / shimmering, sorrowing / following и так далее (259). Еще более важно то, что рифмующиеся слова каждой первой половины строфы всегда один или более раз повторяются во второй половине строфы (260). Этому приему соответствует и повторение одних и тех же образов — «волосы, как тень», падающие годы, падающие листья, и — через все стихотворение — болиголовы как символ смерти. Но последняя строфа состоит из девяти строк и разрушает образец. К тому же рифмуются в ней уже не причастия типа glimmering/ shimmering, как в предыдущих строфах. Рифмы последней строки представляют собой ряд bare / grey / door / morrowless / lay / more / away / sorrowless. Что это означает? Сказать можно только одно: здесь рассказывается (пусть лишь намеками) история о тьме, смерти и разлуке, подобная истории об Эарендиле и Элвинг, о мореходе и рыдающих женщинах Средьземелья. Последние слова этой песни — singing sorrowless («беспечально распевая») — противоречат общему настроению, но при этом подчеркивается, что Берен и Лутиэн не возвращаются — они уходят прочь, в некий лес, символизирующий, возможно, «смертность» и — в итоге — смерть (261). Арагорн подтверждает это толкование, замечая, что Лутиэн не просто умерла (умирают многие эльфы), но «умерла по–настоящему и покинула этот мир». Объяснения этих слов читателям пришлось ждать, пока не появился «Сильмариллион». Но в некотором смысле объяснений и не требуется. Главное уже сказано — с помощью внезапного (хотя и почти незаметного) изменения строфической формы: в последней строке отсутствуют «отзвуки эха». Возможно, в этом и состоит сущность стиля анн–теннат.
Остальные стилистические и тематические вариации перечислить легко. «Песнь о Дьюрине», которую поет Гимли в Мории, по–гномьи проста и энергична, но и здесь неотъемлемым от Средьземелья гибели и упадку противопоставляется некая далекая надежда. «Песня о Нимродели», которую поет несколько позже Леголас, говорит о том же, но кончается на другой ноте — на рассказе о беде и поражении, подстерегающих на Здешних Берегах. Элегия, которую Фродо складывает в память Гэндальфа, кончается на словах о смерти, но Сэм добавляет к ней несколько более жизнерадостную коду, и в итоге оказывается прав. Песня Галадриэли (та, что приведена на Общем Языке) кончается нотой сожаления и вопросом: «Но где корабль тот, / Что, на борт взяв, Галадриэль / За Море унесет?» — зато другая ее песня, квэнийская, — на ноте надежды и утверждения: «Но, может, ты отыщешь его в тумане? Может, хотя бы ты?» [317]. Как и в случае с хоббичьими песнями, здесь есть подтекст. За этими песнями стоит история о Приговоре и Великом будущем Исходе из Средьземелья, который все оттягивается из–за влюбленной вовлеченности эльфов в дела Средьземелья. Именно в этом причина разногласий Фангорна, тоскующего по корням и кронам, с Кэлеборном и Галадриэлью. Что удивительно в этой «эльфийскости» мифологической поэзии, так это то, как сильно смысл облеченных в поэтическую форму историй зависит именно от чистой формы — от образцов, которым присуще свое собственное внутреннее значение, столь же от них неотделимое, как неотделимы от звучания значения эльфийских названий, смысл непереведенных фрагментов эльфийской речи или песенки Бомбадила. Толкиновское представление о поэзии как в зеркале отражает толкиновское понятие языка; ни там ни здесь звук не должен отделяться от смысла, полагал он.
Если вернуться к исторической реальности, то необходимо будет отметить, что эта английская поэтическая традиция некогда включала в себя что–то подобное средьземелькой эльфийской традиции. Многое из того, о чем говорилось выше, Толкин почерпнул непосредственно из того же «Перла», повествующего о неудачной попытке побега от смертности, с его тяжелым традиционным синтаксисом и невероятно сложной метрической схемой перекрестно рифмующихся двенадцатистрочных строф, изобилующих аллитерациями, ассонансами и синтаксической вариативностью, и вдобавок особым образом связанных между собой и оснащенных рефренами (даже Толкин вынужден был, переводя «Перл», эти два последних приема игнорировать) [318].
Однако традиция «Перла» продержалась только до Шекспира, Мильтона и поэтов–романтиков, причем с течением времени поэтическая техника становилась все беднее и беднее. Толкин, очевидно, надеялся каким–то образом обновить древнюю традицию. Через три первых раздела этой главы — «Стилистические теории», «Поэзия Заселья» и «Эльфийская традиция» — красной нитью проходит почерпнутая из «Перла» и подобных ему поэм непоколебимая уверенность Толкина в том, что поэзия не сводится к простой сумме слов. С этим согласилось бы, впрочем, и большинство критиков. Но Толкин смотрел на это под особым углом Для него самым важным было то, что слова, из которых слагаются стихи, всегда несут в себе все накопленные ими на протяжении столетий значения, которые не так–то легко перечислить в словарях, но которые все же доступны многим носителям языка и подчас прорываются на поверхность, иногда даже заслоняя то, что хотел сказать сам поэт (а вот с этим большинство критиков как раз не согласится) [319]. Вот почему «неплотно прилегающее значение» в поэзии подчас эффективнее, нежели «плотно прилегающее». Иными словами, многотрудная, извращенная оригинальность, которую так ценят писатели двадцатого века, — не единственный путь к мудрости; есть и другие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: