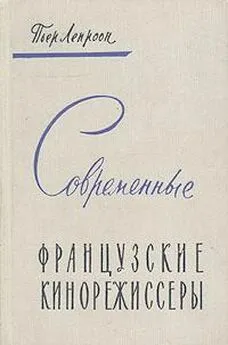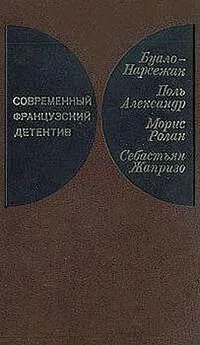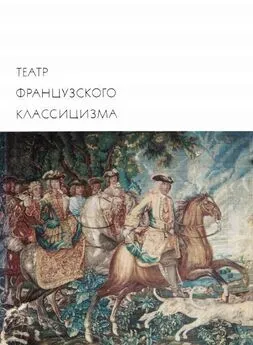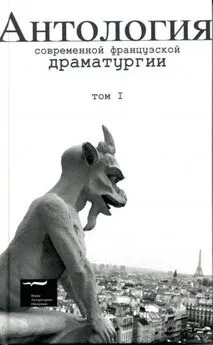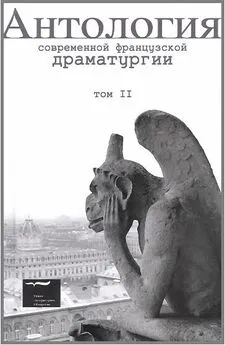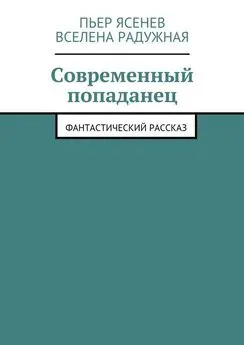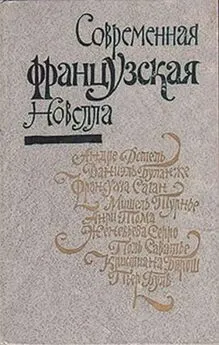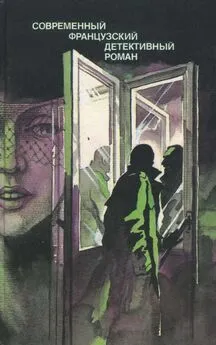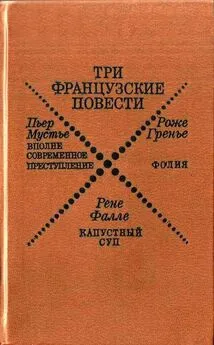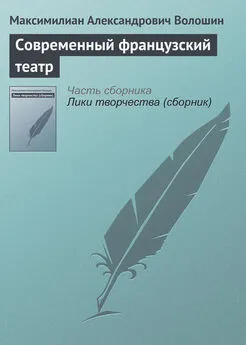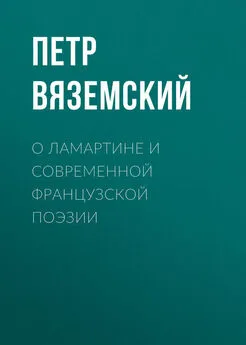Пьер Лепроон - Современные французские кинорежиссеры
- Название:Современные французские кинорежиссеры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство иностранной литературы
- Год:1960
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пьер Лепроон - Современные французские кинорежиссеры краткое содержание
В предлагаемой читателю книге, написанной французским киноведом П. Лепрооном, даны творческие портреты ряда современных французских кинорежиссеров, многие из которых хорошо известны советскому зрителю по поставленным ими картинам. Кто не знает, например, фильмов «Под крышами Парижа» и «Последний миллиардер» Рене Клера, «Битва на рельсах» Рене Клемана, «Фанфан-Тюльпан» и «Если парни всего мира» Кристиана-Жака, «Красное и черное» Клода Отан-Лара? Творчеству этих и других режиссеров и посвящена книга Лепроона.
Работа Лепроона представляет определенный интерес как труд, содержащий большой фактический материал по истории киноискусства Франции и раскрывающий некоторые стилистические особенности творческого почерка французских кинорежиссеров.
Рекомендуется специалистам-киноведам, преподавателям и студентам искусствоведческих вузов.
Редакция филологии и искусства
Современные французские кинорежиссеры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Доктор Ришар, вызванный к смертному одру молодого художника, который только что отравился газом, обнаруживает в его мастерской фотографию своей жены в объятиях этого молодого человека. Мадам Ришар— признанная актриса, мать и, казалось, верная супруга. Как и почему она стала любовницей молодого художника? Такой вопрос задает ей в тот же вечер муж; и она отвечает на него в фильме, возвращающем нас к минувшему десятилетию, к годам оккупации.
Исповедь? Не совсем. Воспоминания, упреки, иногда в тоне рассказа звучит нота самооправдания. Только две-три вспышки гнева у мужа, несколько слезинок у неверной супруги. Их супружеская жизнь не была безупречной ни с той, ни с другой стороны. К утру любовник умер, исповедь закончилась. Жизнь продолжается. Злоречивые люди скажут, что «минута откровенности» затянулась.
В действительности здесь нет длиннот. Если иногда все же создается впечатление затянутости, вина ложится на вялость драматического развития сюжета. Но так было задумано даже в композиции рассказа — перед нами не драма, а рассказ о ней.
Марсель Юре вспоминает по поводу этого фильма, и вполне уместно, фильм Анри Декуэна «Правда о малютке Донж». Но ценность последнего в трагедийности его стиля, благодаря которому и проблема и. персонажи выходят за рамки обычной «общечеловечности». Деланнуа, наоборот, остается в этих рамках. И вот мы, зрители, оказываемся перед лицом интимной драмы, рассказанной непринужденно, но без вдохновения.
Быть может, еще одно обстоятельство способствовало тому, что зритель не мог избавиться от своего безразличного отношения к происходящему на экране: на всем протяжении фильма создавалось впечатление, что Мишель Морган обращается скорее к нам, чем к Жану Габену. А это вовсе не усиливает нашего интереса к драме, потому что мы чувствуем себя сторонними ее свидетелями и видим, что наше присутствие только стесняет персонажей в их споре между собой. Нас интересуют не столько обстоятельства, при которых героиня изменила своему мужу, сколько реакция мужа на ее откровенное признание. Драматизм заложен в настоящем, а не в фактах прошлого. Но супруг отвечает невпопад, элементарными и банальными фразами. Нам ни разу не удается почувствовать, что же вызвала в нем эта открывшаяся ему правда: удивление, гнев, вызванный поведением жены или своим собственным, снисхождение, или угрызения совести. Тем самым подлинный смысл избранной темы некоторым образом сместился.
Но, следуя примеру Декуэна, Деланнуа все же сумел достичь, как пишет Марсель Юре, «постоянных и непринужденных переходов от настоящего к прошлому, которые благодаря очень искусным раскадровке и монтажу передают самый ритм мысли и спора. То разговорный кусок служит отличным контрапунктом к немым кадрам, то звуковое оформление кадров удачно нарушает горестную тишину — в сцене, когда муж молча выслушивает признания жены. Затем — тонкий переход, и мы «видим» его ответ, его «замечания на полях», его иронические или горькие контрвыпады. Из этого сопоставления фактов могли возникнуть две противоположные правды. Но потрясающий смысл сюжета заложен в подлинной искренности персонажей, которая является для них главным правилом игры» [340] «Radio-Cinéma-Télévision», N° 146.
.
И все же любопытно, что, несмотря на волнующие темы и искусную и тщательно отработанную форму, произведения Жана Деланнуа почти всегда оставляют нас неудовлетворенными, что возникающая то здесь, то там искорка никогда не вспыхивает ярким пламенем. Талантливость Жана Деланнуа бесспорна. Его искренность как художника не подлежит сомнению. Но ни то, ни другое из этих его достоинств не обладает той заразительной силой, которую излучают другие произведения. Этот художник далек от нас как человек; быть может, как утверждают некоторые, он и сердечен, и чуток, но эта сердечность и чуткость не могут пробить скрывающую их оболочку, или, вернее, не могут высвободиться из определенного морального канона.
К тому же Жан Деланнуа неверно оценивает свои возможности. Убедительное доказательство тому—сделанный в стиле причудливой буффонады фильм «Дорога Наполеона» (с Пьером Френе в главной роли, который и сам не способен выйти за пределы своего преувеличенно строгого искусства!) или пошловатая новелла «Постель мадам де Помпадур».
Между этими двумя ошибочными отклонениями от его творческого пути была сделана еще новелла «Жанна д'Арк» для фильма «Судьбы», большой замысел которого остался неосуществленным. Довольно любопытно такое постоянное стремление этого протестанта ставить фильмы на католические сюжеты. Маловероятно, чтобы Деланнуа мог воплотить на экране проблему Жанны, столь сложную, зачастую противоречивую и, несомненно, требующую большого вдохновения; трудно поверить, что он в состоянии прочувствовать и передать образ той, которая так ярко выполняла свою миссию божьей избранницы. Во всяком случае, в «эпизоде ребенка из Ланьи», составляющем основу сюжета новеллы для фильма «Судьбы», ничто не подает этой надежды. Здесь те же неоднократно отмечавшиеся достоинства и недостатки режиссера: эмоциональная скованность, внешний драматизм, чопорность формы.
Мы не находим, однако, даже и прежних достоинств Деланнуа в «Одержимости», в одном из его самых плохих фильмов. Если они и появляются в фильме «Бродячие собаки без ошейников», получившем в Венеции Большую премию, то в конечном итоге лишь затем, чтобы обернуться против автора.
«Фильм начинается яркой и необычной сценой: в костюме, сделанном из портьер, с картонной короной на голове мальчик пляшет один под звуки сипловатого патефона в хлебном амбаре, как ни странно, украшенном гирляндами в честь 14 июля, букетом в честь новобрачной, бронзовыми канделябрами, креслом, которое служит троном маленькому картонному королю, и еще картиной, изображающей старинную свадьбу. Покончив с танцами, этот ребенок, маленький товарищ героев «Запрещенных игр» и ученика Даржелоса, милого сердцу Кокто, поджигает амбар и спасается бегством. Вместе с дымом этого пожара рассеивается и вся поэзия фильма. Остается только восьмилетний поджигатель и люди, которые должны наставить его на путь истинный» [341] Jacqueline Michel, «Le Parisien», 1 novembre 1955.
.
Итак, на этот раз Жан Деланнуа заинтересовался проблемой малолетних преступников и поэтому обратился к роману Жильбера Сезброна. В работе над адаптацией участвуют Оранш и Бост — эти французские сценаристы на все руки и Франсуа Буайе, ставший после «Запрещенных игр» признанным специалистом по детским фильмам.
Критика, обычно столь суровая к Жану Деланнуа, была снисходительна к «Бродячим собакам». В них отмечали тон репортажа (Жан Нерн), видели «своеобразное романтическое эссе на потрясающую тему» (Р. М. Арло), поздравляли авторов, которые удержались «от чрезмерной сентиментальности» (Жан де Баронселли). Но когда подходишь к такой драматической проблеме, то позволительно ли сохранять ледяное спокойствие? Надо ли было проявлять подобную бесстрастность, которая могла вызвать у зрителей лишь такое же чувство, тогда как фильм, очевидно, ставил себе задачей вывести зрителя из этого состояния? Общий вывод фильма, собственно, сводится к тому, что есть преступные дети, но есть и хорошие судьи, и матери, которые могли бы быть и хуже, и что все в общем не так уж плохо. А зритель делает вывод, что при данных условиях незачем и делать подобный фильм. А как обойти молчанием фальшивую «правду» фильма —наличие в нем (и в диалогах детей и в зрительном ряду) именно того, чего авторы, как нас уверяют, сумели избежать, — уступок, сделанных в угоду публике? В этом единственном случае мы вполне разделяем чувство негодования, которое выразил Франсуа Трюффо в своей статье в журнале «Ар-спектакль»: «„Бродячие собаки без ошейников"— это не неудачный фильм, это преступление, нарушение некоторых незыблемых правил». Жан Габен, почти всегда замечательно правдивый, здесь так же фальшив, как Пьер Френе, который фальшив всегда: «он щурит глаза, покачивает головой и говорит сквозь зубы с подчеркнутой хитростью, усиленной врожденной хитростью. Деланнуа».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: