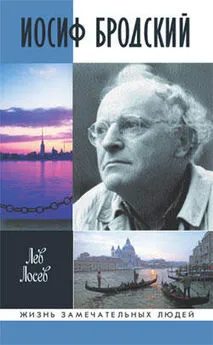Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского
- Название:Как работает стихотворение Бродского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-177-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского краткое содержание
Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
Как работает стихотворение Бродского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Проста и базисная семантическая структура стихотворения. Оно начинается и кончается легко визуализируемыми образами предметного мира. В начале (строки 1–2) дана серия фрагментарных, не связанных между собой ни синтаксически, ни прямой повествовательной логикой картин уничтожения. Инструменты уничтожения: огонь, жернова, секира — больше объектов уничтожения, которые просто малы (страница) или малы на пределе видимого человеческому глазу (зерно, волос). В конце (строки 9—12) тоже возникает картина предметного мира, но уже в глобальном и космическом масштабе. Синтаксически и логически третья строфа — единое высказывание. Его единство обеспечено образом непрерывного движения — через моря к родной земле и ввысь, во вселенную. Семантическую структуру стихотворения в целом таким образом можно назвать «расширяющейся», его динамику сравнить с меняющимся фокусным расстоянием кинокамеры, нацеленной на мельчайшие детали в начале и постепенно переходящей к полю зрения широчайшего охвата. Вспомним, что в концовке «Сретенья» переход Симеона в метафизический мир, победа новообретенного света над «глухонемыми владениями смерти» (ср. здесь «глухонемая вселенная») описаны как «расширение»: «Светильник светил, и тропа расширялась». Сходно и в «Похоронах Бобо»: «Твой образ будет, знаю наперед, / в жару и при морозе-ломоносе / не уменьшаться, а наоборот, / в невероятной перспективе Росси». Поскольку «Сретенье» — это, несомненно, попытка создать средствами поэзии икону [297] См. об этом в моей статье: Ниоткуда с любовью. — Континент. 1977. № 14. С. 307–331, и Верхейл К. Тишина у Ахматовой // Царственное слово. Ахматовские чтения. М.: Наследие, 1992. Вып. 1. С. 17–20.
, то не исключено, что автор сознательно создает образы обратной перспективы, характерной для иконописи [298] См.: Обратная перспектива // Флоренский Павел, священник. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996. С. 9–71.
. В более общем плане этот парадокс — один из центральных философских мотивов всего творчества Бродского: житейский человек «меньше самого себя» («less than one»), но человек в словесном творчестве, человек как «часть речи», «больше самого себя» (ср. державинский перевод Горация «часть меня большая», что значит не «большая часть меня», а «часть меня, которая больше меня») [299] Лексема «часть» в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» читается как принадлежащая к идиосинкратическому образному словарю Бродского.
. Вся середина стихотворения полностью посвящена слову-звуку-слуху, т. е. именно процессу претворения бессвязной и жестокой действительности в гармонию.
При том, что Бродский использовал, особенно до середины 70-х годов, почти все метрические варианты русской сил- лаботоники, шестистопный ямб у него крайне редок [300] См. статью Барри Шерра в настоящем издании.
. До интересующего нас стихотворения этим размером (или с преобладанием этого размера) написаны только «Песчаные холмы, поросшие сосной…» (1974), «1867» (1975), «Пятая годовщина» (1977) и «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц…» (1986), строфическая форма которых, как показывает Лилли [301] Lilly /. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova. P. 213; Лилли не учитывает два более ранних стихотворения 1974–1975 годов.
, делает их интонационно не похожими на то, как обычно звучит в русской поэзии александрийский стих. Традиционный александрийский стих, Яб: аабб…, Бродский использовал в эквиритмическом переводе стихотворения Оде- на на смерть друга «Часы останови, забудь про телефон…» (1994). Избранная для юбилейного стихотворения метрическая форма, так называемый элегический александрийский стих (Я6:аБаБ), повторяется только в стихотворении «Письмо в оазис» (1991), которое, на наш взгляд, непосредственно связано со стихами на столетие Ахматовой, по существу они составляют диптих. Учитывая, что вообще стихи в строгих правилах силлаботоники редки в творчестве Бродского после 70-х годов, уникальность метрической основы стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» очевидна и является существенным смыслообразующим компонентом.
Метрический контекст стихотворения описан Лилли в посвященной этому вопросу статье. К сказанному Лилли хотелось бы добавить следующие предположения относительно специального иконического значения шестистопного ямба для построения образа Ахматовой. Помимо торжественного тона, подобающего стихотворению-монументу, и четкой цезуры [302] Ср.: «Всякий раз, когда речь заходит об античности или о трагедийности ситуации или ощущения, Мандельштам переходит на тяжело цезурированный стих с отчетливым гекзаметрическим эхом» (Бродский И. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» // Materials from the Mandelstam Centenary Conference. School of Slavonic and East European Studies. London, 1991 / Compiled and edited by R. Aizlewood and D. Myers. Tenafly, N.Y.: Hermitage Publishers, 1994. P. 15).
, симметрично разбивающей строки на равные половины, что особенно эффектно выделяет антитезы в зачине, можно предположить еще два компонента в семантической ауре александрийского стиха, привлекшие Бродского: восприятие Ахматовой Мандельштамом как Федры из трагедии Расина («Вполоборота, о, печаль!..») и египетская архаика, запечатленная даже в самом названии этой стиховой формы.
Переводы французских классицистических трагедий и сочиненные по французским образцам русские трагедии XVIII века (Сумароков, Княжнин, Озеров и др.) — едва ли не самая обширная сфера применения александрийского стиха в русской поэзии. Причем в середине и второй половине XX века им активно пользовались не только Заболоцкий и Кушнер [303] Lilly /. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova. P. 215.
; в количественном отношении, вероятно, несравненно больше александрийских стихов вышло из-под перьев переводчиков, переводивших французских и других классиков для многочисленных советских изданий. Но дело, конечно, не в том, что, посещая заседания секции переводчиков в ленинградском Союзе писателей, Бродский мог до одури наслушаться монотонных двустиший. Клишированное мемуаристами определение облика Ахматовой как «царственного» для Бродского ассоциируется с такими героинями высоких трагедий, как Федра и Дидона [304] Ср. стихотворение «Дидона и Эней» (Бродский И. Сочинения: В 4 т. Т. 2. С. 163), а также замечания Бродского о цикле Ахматовой «Шиповник цветет», где в И-м стихотворении Ахматова сравнивает себя с Дидоной: «Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома. Хотя, конечно, это скорее «Дидона и Эней», чем «Ромео и Джульетта»», и «в ее облике <���…> было нечто от странствующей, бесприютной государыни» (Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский — Соломон Волков. Диалоги. М.: Независимая газета, 1992. С. 38 и 47).
, и он достигает эффектной экономии выразительных средств, материализуя царственность образа Ахматовой в трагедийном размере, вместо того чтобы разбавлять лапидарный текст стихотворения прямыми сравнениями.
Интервал:
Закладка: