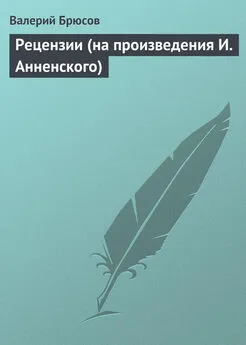Валерий Брюсов - Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие
- Название:Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Брюсов - Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие краткое содержание
Настоящее собрание сочинений В.Я. Брюсова — первое его собрание сочинений. Оно объединяет все наиболее значительное из литературного наследия Брюсова. Построено собрание сочинений по жанрово-хронологическому принципу.
В шестой том вошли избранные статьи и рецензии Брюсова 1893–1924 гг. и его книга о русских поэтах «Далекие и близкие» (1912 год).
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Автор. Этих господ я, подобно вам, истинными поэтами не считаю, но в своем рассуждении вы делаете логическую ошибку. Вы говорите о новой поэзии, о новом искусстве, о том благодетельном и живительном движении, которое возникло во Франции в последнюю четверть прошлого века, — а произносите слово «символизм». Это несправедливо. «Символизм» был лишь одной частью этого движения, вернее одной из теорий, выставленных им, не более. Неужели Верлен был из числа символистов? — он смеялся над ними. Неужели наш Бальмонт — символист?
Издатель. Вы хотите узко понять символизм. Я считаю, что символизм неразрывно связан с тем, что называется в литературе декадентством и импрессионизмом. Символизм импрессионизм и декадентство — это, так сказать, психологическая лирика. Эти три течения то идут параллельно, то расходятся, то сливаются в один поток. Верлен и Бальмонт — бесспорно импрессионисты, художники, передающие намеками свои субъективные переживания, — и потому они «символисты», хотя бы сами отрицали это.
Критик. Мы только запутываем вопрос. Если символизм, импрессионизм и декадентство — три течения одного и того же, то укажите нам то существенное, что их роднит. Иначе сказать, дайте нам определение символизма.
Издатель. Извольте. Символическая поэзия, а вместе с тем импрессионистическая и декадентская, — это такая, в которой сливаются два содержания, сливаются органически, не насильственно: внешнее и внутреннее. За красотой внешних картин и образов, даваемых поэтом, таится более, глубокий смысл, смысл философский, метафизический.
Поэт. Помню, кто-то прекрасно сравнил символическую поэзию с рекой летним утром, когда ее воды гармонически слиты с солнечным светом.
Автор. А на деле всегда выходит, что символизм оказывается просто художественной аллегорией. Таков он в драмах Метерлинка, таков у Верхарна, особенно в сборнике «Les Villages Illusoires», у Малларме, в «Потонувшем Колоколе» Гауптмана, в «Строителе Сольнесе» Ибсена, в «Славе» Аннунцио и везде, во всех прославленных символических произведениях.
Поэт. Нет, между аллегорией и символизмом есть определенная разница. В аллегории художественная сторона, самый рассказ, принесена в жертву основной мысли, идее, и без нее не имеет смысла. В символическом произведении внешнее содержание живет вполне самостоятельной жизнью. Я опять приведу чужие слова, на этот раз Бальмонта: «Аллегория говорит монотонным голосом пастора или шутливо поучительным тоном площадного певца; символика говорит исполненным намеков и недомолвок, нежным голосом сирены или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствия». В символике оба смысла рождаются в душе поэта одновременно и самопроизвольно, тесно сплетены один с другим, насквозь проникают один другой. В аллегории внешнее содержание насильственно притянуто, придумано для выражения какой-нибудь старой моральной истины.
Автор. Так это в плохой аллегории! А вспомните аллегорические группы Микеланжело. Разве в них внешнее выражение притянуто, придумано? Разве оно не слито органически с самой идеей?
Поэт. Но они уже символичны!
Автор. В таком случае будем называть аллегорией плохую символику, а символом — хорошую аллегорию. Но дело не в словах. Вопрос в том: прибавляет ли что-нибудь второе, внутреннее содержание к художественному значению первого, внешнего содержания? Значительнее ли, прекраснее ли символическое произведение потому, что в нем за внешним рассказом скрыта некая философская, метафизическая мысль?
Поэт. Поэт, просто воспроизводящий действительность, — раб ее; поэт-символист осмысливает действительность. Реалисты не более как наблюдатели, что-то вроде фотографических аппаратов. Символисты — всегда мыслители, истолкователи жизни. Реалисты в своих произведениях оставляют вас, как и в жизни, лицом к лицу с природой. Символисты ставят между вами и природой посредствующее звено: тайну своего творчества.
Автор. Ах, никто не против того, чтобы поэты были и мудрецами, чтобы поэзия не только изображала, но и осмысливала мир. Никакие, самые ярые натуралисты не станут с этим спорить. Но как этого достигнуть? Вы уверяете, что мир осмысливается в символических произведениях. Возьмем «Смерть Тентажиля», драму, конечно, символическую. «Внешнее» ее содержание прекрасно, сильно, истинно художественно. Но каково ее «внутреннее» содержание? Что смерть беспощадна и безжалостна, что все должны умереть? Но чтобы сообщить человечеству такую новую для него истину, право, не стоило писать драму!
Поэт. Вы ошибаетесь. В «Смерти Тентажиля» не только эта мысль, но и целый ряд других. Символика тем и глубока, что допускает не одно, а много толкований. Царица в «Тентажиле» — и Смерть, и Судьба, и Ужас Жизни, и все, чему имя Неизбежность. Точно так же остров Тентажиля — это и наш мир, и наша душа, и области, доступные нашей мысли…
Автор. И все равно, какие ни давайте объяснения, — вы выведете только скудные, давным-давно известные истины. Но возьмем еще пример: «Слепых» того же Метерлинка. Вы хорошо помните драму? Слепых повел на прогулку старый священник — и умер; без проводника они в отчаянье, предвидят свою гибель и взывают ко всякому прохожему о спасении. Аллегория ясна. Остров — это мир; слепые — человечество; их проводник — вера. Вера в людях умерла, и они готовы следовать за любым прохожим, только бы найти руководителя… Что бы вы сказали о публицисте, в статье которого в конце концов сообщалась бы только такая, столь оригинальная мысль?
Поэт. Простите, но вы опошливаете своим истолкованием драмы Метерлинка.
Автор. Вы, может быть, думаете, что я не люблю Метерлинка? Напротив, я очень люблю его драмы, но люблю не за их символичность, а вопреки ей. Для меня совершенно достаточно внешнего содержания этих драм. В царице «Тентажиля» я предпочитаю видеть фантастическую царицу, а не Смерть. В драме Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся» мне кажется достаточно драматичным самый ее сюжет, ее «внешнее» содержание. Рубек встречает ту, которую любил когда-то, но к любви которой в свое время отнесся слишком легкомысленно. Он и теперь ее любит, с тайной, но глубокой тоской о прошлом, уже недоступном. Она — помешанная, но он не замечает этого, не хочет заметить. Она говорит ему безумные слова, он отвечает ей, как сознательной душе. Она зовет его в горы, он покорно следует за ней, и они погибают. Разве это не трагедия? Зачем мне вдумываться в имена Ирены и Майи, зачем мне подставлять под эти образы какое-то второе, скрытое содержание?
Поэт. Вы, как дитя, довольствуетесь внешним в символике. Что ж, это вполне законно. Символическая поэзия именно такова, что в ней можно наслаждаться и непосредственными впечатлениями. Но кто умеет, тот читает между строк, и ему открывается затаенное там!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: