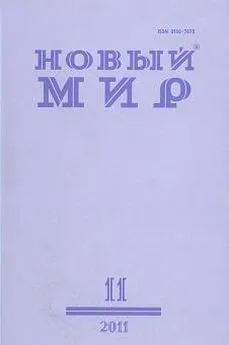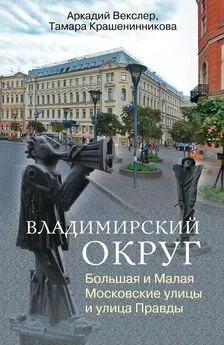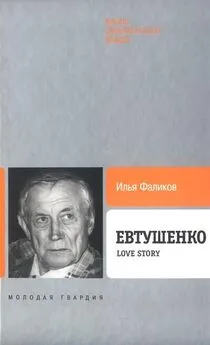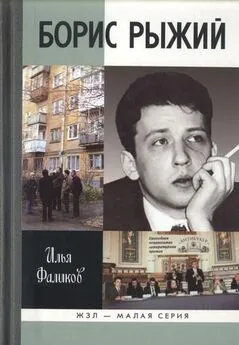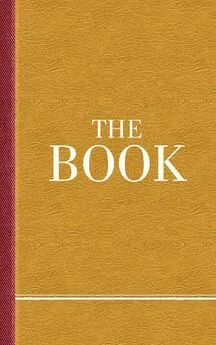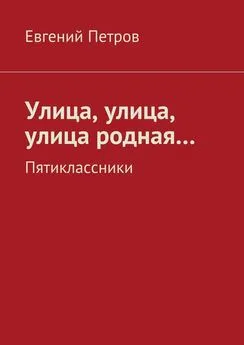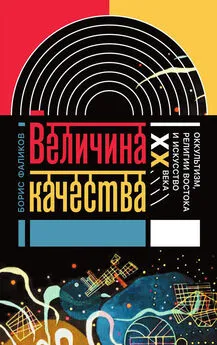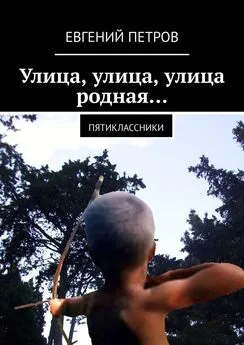Илья Фаликов - Улица Луговского
- Название:Улица Луговского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:журнал Новый мир №11
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:0130-7673
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Фаликов - Улица Луговского краткое содержание
Улица Луговского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэмы он начитывал Елене Сергеевне, сидящей за машинкой. Не исключено, что зачастую это было импровизацией, творчеством на ходу, без бумаги и карандаша. Доработка шла потом, уже по машинописи. Так ли? Это лишь гипотеза, ручаться невозможно.
Сейчас его поэмы читаются легко, почти как проза. Продуманный алогизм монтажа, эпизодическая невнятица, нелинейное действие, медленный темп и даже затянутость иных вещей — все это нынче уже общий арсенал.
А к той поре разве что Блок, Кузмин да Мандельштам пользовались подобным инструментарием, отличным от последовательно осмысленного, нерискованного стихотворства.
Здесь же, разумеется, и ранний Пастернак с поздней Цветаевой, но углубляться в этот бездонный колодец не решусь. Могу лишь отослать к любопытной статье Леонида Воронина «Услышать… для поэта — уже ответить (Марина Цветаева и Владимир Луговской. Версия)».
В конце 30-х А. Тарасенков, видный критик, личный друг, вполне благосклонный к поэту, писал в «Литературной энциклопедии» о конструктивистском делячестве и попутничестве Луговского, а также о «физиологическом иррационализме», — о, язык той эпохи! Луговской к той поре присутствовал в поэзии пятнадцать лет, имел аудиторию и, кажется, уже даже орден. Не все было безоблачно вего литкарьере. Каковая была в общем и целом благополучной и шла по нарастающей. Мелкобуржуазный интеллигент становился пролетарским поэтом. Сколько тут было делячества, неведомо. Он жаждал вписаться в ряд, у него получалось. Ну и, само собой, как сказано еще в «Сполохах»: «И в спину ползет, как матросский нож, / Суровая жажда славы».
В 41-м его подстерегла сама поэзия, швырнула в арык, в канаву, на дно. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Бродский чуть не через не хочу упомянул событие смерти «автора „Середины века“». Не назвав имени. Но — упомянул, не отмолчался. Думаю, позднейшая вещь Бродского «Назидание» («Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах…») — далекое эхо Луговского.
Длинная строка, богатая ритмика, голосовое гудение — куда от этого денешься? Это вошло в стиховой состав всех, кто начинал в отрезке времени от 30-х до 60-х. Тот же Евтушенко, наиболее верный ученик по всем параметрам — от актерства до трибунности. А лукавство? Посвятить стихотворение «Ограда» якобы памяти Луговского (испросив разрешения у вдовы), на самом деле имея в виду Пастернака. Публичность прежде всего. Ничего для архива. Но «Середина века» писалась в стол. В архив. Так ли? Он подготовил публикацию этих поэм, немилосердно их изувечив.
Бродский и Луговской — авторы намеренного словообилия. Есть два вида длиннот. Первый — перегруженность смыслами, техническими средствами, версификационным щегольством, род лаконизма внутри многословия: Бродский. Второй — просто болтовня, павлиний хвост элоквенции, недержание речи на градусе пафоса, с подспудной заботой о заработке: это случай Луговского. Нередко оба вида совмещаются. Так или иначе, Луговской открыл Бродскому возможности большого, долгого говорения без регламента. Недаром Бродский вспомнил о Луговском — в разговоре о Рейне. Скорей всего, это учитель Рейн преподал юному Бродскому урок на тему «Луговской», а затем, пишучи свои поэмы, сам воспользовался наследием «бровеносца». Книга поэм «Предсказание» — оттуда. Более того, построенную на всяческой игре поэму «Кабинет», где Луговской спрятан за именем некоего Клима Поленова, а Майя окрещена Августой, Рейн посвятил непосредственно Луговскому. Здесь говорится о многом, в частности о «Середине века»: «Там есть необычайные места, / исполненные ярости и силы, / есть пластика Рембрандтовой замашки, / есть многое — но все это провал. / Нельзя всю жизнь прожить, как жил Поленов, / и „Фауста“ под занавес создать!» Тем не менее: «…и здесь, и здесь я сын / Поленова, и мне не отпереться».
Увы. Однако своего «Фауста» Луговской создает — Рейн слегка ошибся — не под занавес. В начале сороковых ему чуть за сорок. Чуть не лучшее из того, что он тогда написал, не вошло в книгу поэм, но писалось для нее. Эти вещи надо назвать: «Вступление ( К поэме „Сказка о печке“ )», «Крещенский вечерок», «Каблуки», «Средь сосен, в доме, пахнущем карболкой…». По этим шедеврам можно судить, какова была бы ценность вообще всего творчества Луговского, кабы не… надо ли определять? Если бы да кабы. Это беспримесно чистая порода, без позднейших загрязнений, правок и нивелировок 56-го года, когда Луговской готовил книгу к печати. В том же 56-м он намахивает совсем уж никудышные опусы — «Москва», «Юность».
В иных вещах «Середины века» он воспроизводит на другой лад свои рифмованные стихи: «Девушка моет волосы» или «На смерть матери». Стихи переводит — в почти прозу. Обычно поступают наоборот: зарифмовываются прозаические наброски. Луговской пытается отменить себя прежнего. Но о матери он пишет две вещи одновременно, в 43-м. Ему всегда не хватало единственного высказывания.
Борис Рыжий: «Потому что все меня любили, / дерева молчали до утра. / „Девочке медведя подарили“, — / перед сном читала мне сестра» («Прежде чем на тракторе разбиться…», 1999). Борис запомнил эти стихи наизусть и читал их уже своему сыну Артему. Тогда же он написал «На мотив Луговского», в котором сказано: «Мне от сказок ничего не надо, / кроме золотого волшебства». Значит, сказка? Выходит, так. Золотой сон на фоне наших изумительных дней. Полная аналогия с тем, к чему клонил Луговской в свои восхитительные времена. Когда в «Новом мире» (2000) было напечатано мое «Памяти Луговского», Борис позвонил мне, делясь волнением.
Межиров написал своего «Медведя» с оглядкой на «Медведя» Луговского, не без полемики с предшественником. Луговской мощно влиял и был героем новых поэтов после войны — будучи в упадке. Парадокс. Двусмысленность межировской пиесы «Коммунисты, вперед!» и многое другое вообще — оттуда же. Он вел литинститутский семинар еще до войны. Это он их обучил лживой меди послевоенного пафоса. Дядя Володя. Так называли его тогда молодые. Великолепный гигант, человек из Голливуда, с платочком в нагрудном кармашке привозного бостона, с маяковской тростью. Глыба пустоты? Если бы. С этим было бы проще. Нет — и нет. А он есть. Голос. Практически — музыка без слов. Бывает? Не бывает. Но есть. Или это играет в памяти какая-то пластинка?
Межиров: «Свист соловьиный, клекот орлиный слышишь, Елена?» Луговской: «Ах, Елена, Елена, зачем ты мне снишься!» Мое чувство к Луговскому возникло до появления в моей судьбе Межирова. Он тут почти ни при чем. Если не считать «Серпухов», прочитанный позже. «А на Сретенке в клетушке, / В полутемной мастерской, / Где на каменной подушке / Спит Владимир Луговской…»
Владимир Солоухин. Роман «Мать-мачеха» (1964). Такой эпизод. Молодой поэт в кризисе приходит к наставнику. Роскошная жена мэтра обыскивает его в дверях. Не находит в портфеле чекушек, принесенных им для мастера по его телефонной просьбе. Мастер мгновенно напивается, из сереброглавого исполина превратившись в древнего пепельнолицего старца. Говорит лежа:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: