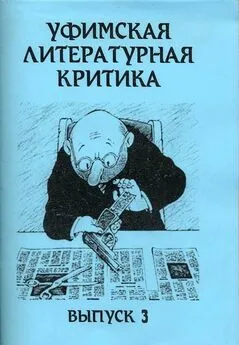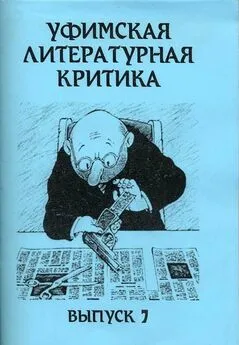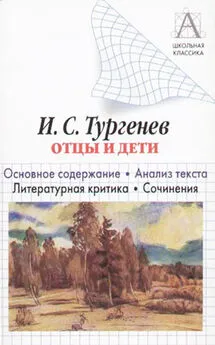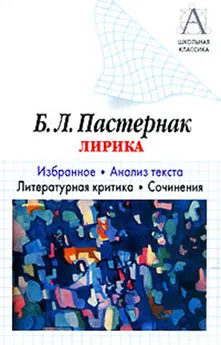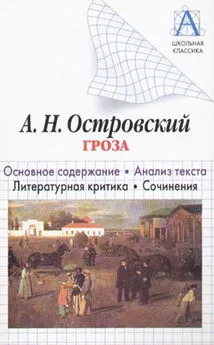Г. Лелевич - Г. В. Плеханов и задачи марксистской литературной критики
- Название:Г. В. Плеханов и задачи марксистской литературной критики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Г. Лелевич - Г. В. Плеханов и задачи марксистской литературной критики краткое содержание
Лелевич Г. — Род. 17 сентября (ст. ст.) 1901 г. в г. Могилеве. Был одним из основателей группы пролет, писателей «Октябрь» (в декабре 1922 г.) и Моск. Ассоциации Пролет. Писателей (МАПП) (в марте 1923 г.), а также журнала «На Посту». Состоит членом правлений ВАПП (Веер. Ассоц. Прол. Пис.) и МАПП, членом секретариата международного Бюро связей пролетлитературы и членом редакций журналов «На Посту» и «Октябрь». До конца 1922 г. находился исключительно на партийной работе. Писать начал с детства, серьезно же с 1917-18 г. Отдельно вышли: 1) Голод. Поэма. Изд. Гомельск. отд. Гос. Изд-ва. Гомель. 1921. 2) Набат. (Стихи). Изд. то же. Гом. 1921. 3) В Смольном.
(Стихи). Гос. Изд-во. М. 1924
Лелевич Г. (Лабори Гилелевич Калмансон). — 17.9.1901-8.10.1945.
Известен преимущественно как критик, редактор журнала «На посту» и один из руководителей РАПП. Сборников стихотворений больше не выпускал.
Репрессирован.
Г. В. Плеханов и задачи марксистской литературной критики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эта сторона взгляда Плеханова очень хорошо выражена в его рассуждениях об известной фразе И. С. Тургенева: «Венера Милосская несомненнее принципов 1789 г.» Плеханов очень убедительно доказывает, что красота Венеры Милосской вовсе не является вечным «об'ективным» идеалом красоты. Во-первых, действителен ли идеал красоты, нашедший себе выражение в Венере Милосской, для готтентотов и вообще людей черной расы? Во-вторых, и у людей белой расы идеал красоты далеко не всегда выражался в Венере Милосской. «Мы, вопреки Тургеневу, — пишет Плеханов, — можем сказать, что Венера Милосская становилась тем „несомненнее“ в новой Европе, чем более созревало европейское население для провозглашения принципов 1789 г. Это не парадокс, а голый исторический факт. Весь смысл истории искусства в эпоху Возрождения, рассматриваемый с точки зрения понятия о красоте, в том и заключается, что христианско-монашеский идеал человеческой наружности постепенно оттесняется на задний план тем земным идеалом, возникновение которого обусловливалось освободительным движением городов, а выработка облегчилась воспоминанием об античных дьяволицах». («Искусство», стр. 148–149).
В статье «Об искусстве» Плеханов нанес удар в самое сердце метафизической эстетики. Он доказал, что и такая «об'ективная» «вечная» вещь, как природа, различно воспринимается художниками в разной исторической обстановке. Обрисовав роль пейзажа в итальянской живописи, Плеханов пишет: «Для французских художников семнадцатого и даже восемнадцатого столетия он (пейзаж, Г. Л.) не имеет самостоятельного значения. В девятнадцатом веке дело круто изменяется: пейзажем начинают дорожить ради пейзажа, а молодые живописцы: Флер, Каба, Теодор Руссо ищут на лоне природы, в окрестностях Парижа, в Фонтенебло и в Медоне таких вдохновений, самой возможности которых не подозревали художники времен Ле-Брена и Буше. Почему это? Потому что изменились общественные отношения Франции, а вслед за ними изменилась также психология французов. Итак, в различные эпохи общественного развития человек получает от природы различные впечатления, потому что он смотрит на нее с различных точек зрения» (Там же, стр. 56).
Всюду и везде метафизике, оперированию абсолютными нормами Плеханов противопоставляет историзм, диалектику. В одной из своих статей о Белинском Плеханов приводит следующие слова «неистового Виссариона»: Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории; нет, она должна рассматривать искусство, как предмет, который существовал давно прежде нее, и существованию которого она сама обязана своим существованием. Приведя эти слова, Плеханов восклицает: «Это именно то, что мы хотим сказать». (Собр. соч., том X, стр. 297).
Все эти бесспорные положения, установленные Плехановым, имеют самый животрепещущий интерес. Метафизики просветительского и эстетского типа имеются и сейчас в достаточном количестве. Этого сорта теоретики, к сожалению, часто выступают и под якобы марксистской маркой.
Диалектический подход пионера русского марксизма к проблемам искусства сказывается и в подходе его к двум основным взглядам на искусство: утилитарному взгляду и теории «искусство для искусства». В своей известной статье «Искусство и общественная жизнь» Плеханов подчеркивает, что и к этим двум теориям надо подходить не с точки зрения абсолютной нормы, а исторически. Плеханова интересует тут вопрос, «каковы наиболее важные из тех общественных условий, при которых у художников и у людей, живо интересующихся художественным творчеством», укрепляется теория «искусство для искусства» или, наоборот, утилитарный взгляд. В результате образцового исторического анализа Плеханов приходит к следующим выводам: «Склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой [4] Совершенно непонятно, почему тов. Л. И. Аксельрод (Ортодокс) в ее интересной брошюре об Уайльде понадобилось вместо четкой плехановской характеристики теории «искусства для искусства» выдвинуть софистическую путаницу о разных толкованиях этой теории (см. стр. 51 упомян. брошюры). Г. Л.
… Так называемый утилитарный взгляд на искусство, т.-е. склонность придавать его произведениям значение приговора о явлениях жизни и всегда ее сопровождающая радостная готовность участвовать в общественных битвах возникает и укрепляется там, где есть взаимное сочувствие между значительной частью общества и людьми, более или менее деятельно интересующимися художественным творчеством». («Искусство», стр. 140). Плеханов остается верным диалектике и при выяснении вопроса о плодотворности для искусства того или иного взгляда: «Какой из двух противоположных взглядов на искусство более благоприятен его успехам? Как и все вопросы общественной жизни и общественной мысли, вопрос этот не допускает безусловного решения. Тут все дело зависит от условий времени и места» (там же, стр. 145).
Таким образом, Плеханов не говорит: такая-то теория хороша, а такая-то плоха. Он только выясняет условия, которым соответствует каждая из этих теорий. Так же диалектически подходит Плеханов и к старому вопросу: что важнее для искусства, — содержание или форма? Вместо ответа на этот метафизический вопрос, Плеханов выясняет, каковы взаимоотношения содержания и формы в различных исторических условиях: «Форма тесно связана с содержанием (курсив автора). Правда, бывают эпохи, когда она отделяется от него в более или менее сильной степени. Это — исключительные эпохи. В такие эпохи или форма отстает от содержания или содержание от формы. Но надо помнить, что содержание отстает от формы не тогда, когда литература только еще начинает развиваться, а тогда, когда она уже склоняется к упадку, — чаще всего, вследствие упадка того общественного класса или слоя, вкусы и стремления которого в ней выражаются. Примеры: декадентство, футуризм и прочие им подобные литературные явления наших дней, вызванные духовным упадком известных слоев буржуазии. Литературный упадок всегда выражается, между прочим, в том, что формой начинают дорожить гораздо более, нежели содержанием. Но содержание так тесно связано с формой, что пренебрежение к нему быстро влечет за собою сначала утрату красоты, а потом и полное уродство формы. Для примера опять укажу на декадентство и футуризм в литературе и еще, пожалуй, на кубизм в живописи. Но в те эпохи, когда еще только начинается развитие литературы (или искусства), происходит явление прямо противоположное тому, которое мы наблюдаем в эпохи упадка. Тогда не содержание отстает от формы, а наоборот — форма от содержания» («Ист. русск. обществ. мысли», том III, стр. 7–8). Эта схема, не выдуманная, а индуктивно выведенная из опыта истории, имеет большое практическое значение, так как она дает один из критериев для определения социальной значимости литературных течений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: