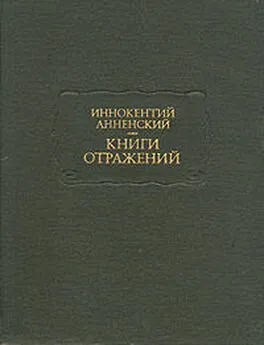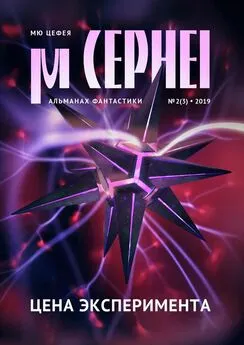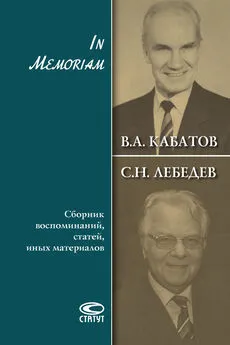Сергей Беляков - Сборник критических статей Сергея Белякова
- Название:Сборник критических статей Сергея Белякова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Беляков - Сборник критических статей Сергея Белякова краткое содержание
Сборник критических статей Сергея Белякова.
Сборник критических статей Сергея Белякова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На ряду с дружескими чувствами (которые Олеша все-таки сохранял к Катаеву) у автора «Зависти» накапливалось раздражение, вызванная завистью ненависть к автору «Растратчиков». Деловитость, решительность, ловкость, удачливость, ум, здоровье Катаева, пройдя через раздраженное завистью сознание и подсознание Олеши, воплотилось в Андрее Бабичеве, вызывающем ненависть у Кавалерова и неприязнь у читателя. Если наше предположение о том, что Катаев стал прототипом Бабичева, верно, то это была своеобразная месть Катаеву, особенно «сладкая» тем, что литератор был выведен здесь человеком, чуждым искусству, чуждым всему изящному. Это сродни мести Кавалерова, который, крикнув Бабичеву «колбасник!», тем самым низвел этого государственного мужа до уровня удачливого мещанина.
А вот, что писал о своих взаимоотношениях с Олешей сам Катаев: «… меня с ключиком связывали какие-то тайные нити… нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами. Судьба дала ему, как он однажды признался во хмелю, больше таланта, чем мне, зато мой дьявол был сильнее его дьявола… вероятно, он был прав… Вообще, взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к другу» [147] Катаев. Указ. соч. С. 94–95, 103.
.
Слова Катаева подтверждает и А. Гладков: «… Юрий Карлович назвал К. [В.Катаева — С.Б.] братом, но тут же начал говорить злые парадоксы о братской любви… Все это было какой-то очень сложной вариацией одной из тем «Зависти» и одновременно каких-то глубоко личных рефлексов» [148] Воспоминания о Ю. Олеше… С. 275.
.
Итак, двойная зависть. Зависть таланта к пассионарию (Олеша) и пассионария к таланту (Катаев). Особо подчеркну, что зависть Олеши к Катаеву — это отнюдь не вариант творческого соперничества. Его зависть имела психофизиологическую природу. Надо сказать, что Олеша, не зная ни о биохимической энергии, ни о пассионарности, отлично чувствовал то, чего ему не хватало. В дополнение к словам о «дьяволе» позволю себе привести еще две цитаты из дневников Олеша: «Видел в парикмахерской лицо человека, каким хотелось бы самому быть. Лицо солдата — лет сорока, здоровый, губы как у Маяковского… Это лицо, которое хотелось бы назвать современным, интернационально мужским. Лицо пилота, современный тип мужественности… Вероятно, бывший командарм, ныне работающий дипкурьером»; «Репетиция «Трех толстяков»… Ведет репетицию Москвин. Бешеный темперамент — в пятьдесят шесть лет… Он — мужчина. Может вдруг вызвать зависть. Я завидую умеющим проявлять достоинство» [149] Олеша Ю. Книга прощания… С. 37–38, 42.
. Как видим, Олеша завидовал не представителям другого класса, «людям нового мира» и т. п., а именно пассионариям, вне зависимости от того, советские партработники, выходцы из крестьян они, или московские интеллигенты.
А что же другой завистник, Катаев? Он написал раз в десять больше, чем Олеша, причем умел писать что нужно и когда нужно. Он стал советским вельможей. В отличие от Олеши, мечтавшего о Европе, но так и не увидевшего ее, Катаев объездил всю Европу, побывал и в США. Он был менее талантлив, чем Олеша, но зато, в отличие от автора «Заговора чувств», как писатель он реализовался полностью. Катаеву пришлось учиться многому и з того, что было дано Олеше от природы. И он вновь обошел Олешу. «Ни дня без строчки», на мой взгляд, гораздо слабее поздней прозы Катаева. Думается, что автор «Травы забвения», «Рога Оберона», «Белеет парус одинокий», «Алмазного венца» и даже «Время, вперед!» останется заметной фигурой в русской литературе ХХ века, но вещь, равную «Зависти» ему так и не удалось написать. А вскоре после смерти его, как одного из тех, кто, по выражению Солженицына, «обслуживал курильницы лжи», предали анафеме.
Но много ли счастливей посмертная судьба Олеши? Да, его не проклинают, напротив, даже жалеют как «жертву режима». Однако 100-летний юбилей Олеши прошел даже тише, чем юбилей Катаева. За пушкинско-набоковско-платоновскими торжествами о юбилее автора «Трех толстяков», кажется, почти все позабыли. Даже долгожданный выход в свет «Книги прощания», в которую вошли прежде всего не публиковавшиеся ранее или публиковавшиеся лишь в журналах дневники Олеши, в чем-то даже повредил ему, ибо разрушил миф, бытовавший со времен первого издания «Ни дня без строчки» о том, что В.Шкловский, якобы, скрыл лучшую часть дневников (видимо, из той же зависти). К сожалению, у нас нет достоверных источников, позволяющих говорить о взаимоотношениях Олеши и Шкловского, но большая часть опубликованных ранее дневниковых записей, в художественном отношении, на мой взгляд, не лучше того, что публиковалось прежде. Хотя как мемуары они интересны, и в них есть несколько удивительных развернутых метафор, но создать еще одну великую книгу (равновеликую «Зависти») Олеша не смог. «В моем теле жил гениальный художник, которого я не мог подчинить своей жизненной силе», — с грустью записал Олеша [150] Олеша Ю. Книга прощания… С. 9.
. Владея русским (кстати, неродным для него) языков не хуже великого Набокова, он так и не стал вторым Набоковым, но Олеша остался королем метафор. Вот одна из них: «Вы прошумели мимо меня как ветвь, полная цветов и листьев». Как знать, может быть именно из этой ветви выросла тема «Веты» в одном из самых изысканных произведений русской прозы второй половины ХХ века — «Школе для дураков» Саши Соколова.
Впервые опубликовано в журнале «Урал»
Правда, увиденная своими глазами: Россия через разную оптику
"И я всмотрелся в них, и оказалось, что это маги, а царь их города — гуль, и всех, кто приходит к ним в город, кого они видят и встречают в долине или на дороге, они приводят к своему царю, кормят этим кушаньем и мажут этим маслом, и брюхо у них расширяется, чтобы они могли есть много. И они лишаются ума, и разум их слепнет, и становятся они подобно слабоумным, а маги заставляют их есть еще больше этого кушанья и масла, чтобы они разжирели и потолстели, а потом их режут и кормят ими царя; что же касается приближенных царя, то они едят человеческое мясо, не жаря его и не варя”
(“Тысяча и одна ночь. Рассказ о четвертом путешествии Синдбада-морехода”).Может быть, этот рассказ и не покажется таким уж фантастичным постоянным зрителям “Чрезвычайного происшествия”, “Криминальной хроники”, “Территории призраков”: туристы, попавшие в экстремальную ситуацию, расчлененка и т. д. А всего тысячу лет назад такие рассказы и вовсе воспринимались как быль. Рассказы купцов и путешественников долгое время были единственным источником сведений о далеких странах. Их передавали из уст в уста, досочиняли, дополняли бродячими литературными сюжетами. Когда рассказ наконец заносился на пергамент, папирус или иной доступный носитель информации, он уже приобретал весьма диковинный вид. Более того, сам первоисточник должен был, по-видимому, содержать искаженные сведения. Внимательный (а чаще — мимолетный) взгляд путешественника не столько отражал, сколько искажал реальность далекой и чужой страны. Но что требовать с путешественника, когда даже аборигены столь различны во взглядах на свою страну. Представьте, что группа современных российских писателей попала в какой-нибудь отдаленный уголок ойкумены, к горцам Гиндукуша или Куньлуня. И вот писатели, воспользовавшись услугами переводчика, пытаются рассказать о России. Как вы думаете, что из этого получится? Не сочинят ли эти горцы, со временем, собственные сказки о России — стране каннибалов или лотофагов?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: