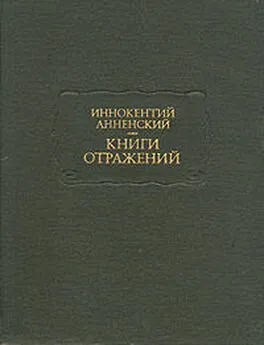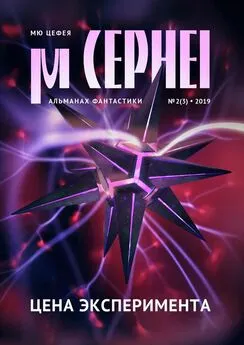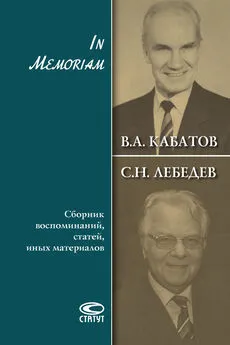Сергей Беляков - Сборник критических статей Сергея Белякова
- Название:Сборник критических статей Сергея Белякова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Беляков - Сборник критических статей Сергея Белякова краткое содержание
Сборник критических статей Сергея Белякова.
Сборник критических статей Сергея Белякова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как будто и не было на свете могучих советских мехкорпусов, полнокровных дивизий — стрелковых, мотострелковых и танковых. Кажется, вся Красная армия исчезла, растворилась, остались от нее лишь какие-то фрагменты. Вот вроде бы в ближнем тылу заслышали гул танковых моторов. Решили было, что это наши тяжелые КВ готовятся поддержать контратаку курсантов, но то был гул моторов немецких.
Мы до сих пор не знаем, что произошло с Красной армией в летние и осенние месяцы 1941 года. Советские танковые и воздушные армады не были фантомом. Сейчас уже ни один добросовестный историк не станет рассказывать сказки о безнадежной отсталости Красной армии, о нехватке оружия, о неготовности Советского Союза к войне. Только на войну и работал Советский Союз, страна, где военную форму носили даже литераторы. Мы не знаем, почему многочисленная и хорошо вооруженная армия была за несколько недель разбита, разгромлена и отброшена на сотни километров от западных рубежей Советского Союза, но, видимо, советские мехкорпуса, рассыпавшиеся еще до столкновения с противником, сотни брошенных танков, красноармейцы, с оружием сдававшиеся в плен десятками тысяч, — отнюдь не миф. “…Нельзя обойти молчанием и имевшиеся случаи паники, позорного бегства, дезертирства с поля боя <���…> мы собрали много горе-воинов, среди которых оказалось немало и офицеров. Большинство этих людей не имели оружия.
К нашему стыду, все они, в том числе и офицеры, спороли знаки различия”. “…Пехота деморализована и упорства в обороне не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части приходится останавливать и поворачивать на фронт <���…> эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного эффекта не дали <���…> батальоны курсантов держались стойко, понесли большие потери, связь с ними утеряна”.
Это на фронте. А вот что делалось в Москве 16 октября 1941 года:
“Кругом летали, разносимые ветром, клочья рваных документов и марксистских политических брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для клиенток, „дамы” выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут — надо прически делать. <���…> О зверствах фашистов было еще мало известно”.
Даже в сознании современного историка, располагающего разрозненными и противоречивыми, но многочисленными источниками, картина 1941 года складывается с трудом. Как же должен был представлять ее кремлевский курсант, брошенный заткнуть брешь в обороне где-то недалеко от Клина? Войска отступают, помощи нет, связи нет, нет тяжелого оружия, против танков только гранаты и бутылки с бензином: “Скажи, а куда же делись наши танки? И самолеты? А? Или их не было?” Курсантам нечем воевать, их оружие бессильно перед немецкой техникой, а техника советская брошена где-нибудь под Белостоком. Алексей стреляет из пистолета по броневикам, Васюков — из ПТР по минометам, Гуляев предлагает… влезть на сосну и достать немецкий самолет-разведчик бутылкой с бензином. Это уже не героизм, а растерянность на грани с безумием. “Все его существо противилось тому реальному, что происходило, — он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось”.
Всякий нормальный человек стремится уйти от опасности, сберечь свою жизнь. Инстинкт самосохранения. Но кроме этого инстинкта есть стыд и есть долг. Душа человека самоубийственно преодолевает естественную реакцию самого организма. Переживания человека на войне писатель передает исключительно достоверно и тонко. Для героев Константина Воробьева характерен внезапный переход от надежды к отчаянию, от страха — к ярости, от ненависти — к жалости. Во время бомбежки само тело “непроизвольно льнуло к стенке окопа”. Когда немецкие пикировщики заходили на бомбежку, Алексей увидел, как побелел Гуляев, “и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу”. Но каждый подумал, “что не побежит первым”. Стыд оказывается сильнее страха, сильнее инстинкта самосохранения. Под минометным обстрелом Алексею кажется, что следующая мина должна разорваться где-то рядом — “в меня”, “сейчас в меня”, — и уже отдает спасительный приказ об отступлении, но тут же кричит: “Отставить!” И вновь он уговаривает себя: “Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только…”, но опять стыд оказывается сильнее инстинкта: “По местам! Бегом! — отчужденно и властно крикнул он. — И без моего приказа ни шагу”.
Точно так же герой преодолевает отвращение к смерти, к “рубиново-светящемуся” штыку, вошедшему немцу в живот.
Конфликт разума и воли с человеческой природой, со страхом смерти, с инстинктом самосохранения неизбежно ведет к гибели. Разорванность сознания и природы делает такого совестливого человека, как герой Константина Воробьева, крайне уязвимым на войне. От стыда и отчаяния застрелился Рюмин. Сергей (“Крик”) честно исполнил приказ неумного командира и попал в плен. Во время страшного боя в лесу, когда немцы практически безнаказанно расправлялись с плохо вооруженными курсантами, Алексей порывается выскочить из укрытия на верную смерть, а затем пытается застрелиться. Лишь чудо несколько раз спасает его от смерти.
Спасает Алексея не только собственное желание жить, все-таки одержавший победу мудрый природный инстинкт. От самоубийственного поступка его удерживает товарищ, безымянный курсант из третьего взвода. Этот малозначительный на первый взгляд персонаж очень важен для нас. Алексей сначала принимает его за труса, дезертировавшего с поля боя. Но курсант оказался не трусом. В рукопашной он заколол трех немцев, заколол, видимо, хладнокровно. По крайней мере, в отличие от Алексея, не испытывая ни отвращения, ни тошноты, да еще и немецкий “игрушечно-великолепный” автомат прихватил, и свою СВТ сохранил. Не трус, но от безнадежного боя уклонился. Вот здесь и проявляется, очевидно, различие между храбрым, честным, мужественным человеком на войне и настоящим человеком войны. Последний не столько понимает, сколько чувствует законы войны, знает, когда необходимо проявить мужество, а когда лучше отступить. Отступить не только ради спасения жизни, но и для будущей победы. “Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем… Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех…”
На войне он как дома. В почти безнадежной ситуации находит единственно возможный выход. И надо признать, на войне от него и в самом деле больше пользы. Немцев больше убил и сам жив остался.
У Константина Воробьева есть несколько героев, напоминающих образ человека войны. Кроме курсанта из третьего взвода к ним относятся помкомвзвода Васюков в “Крике” и, может быть, “упоенный буйной радостью первой победы” Гуляев (“Убиты под Москвой”). Их отличия от Алексея, Рюмина и большинства курсантов не столько мировоззренческие, сколько психофизиологические. Война для них не так страшна, загадочна, необъяснима и трагична, как для Алексея, Рюмина, Сергея. Они не стараются понять смысл происходящего, но кожей чувствуют его. Поэтому храбрый курсант в безнадежном положении находит спасительное укрытие, его не мучает совесть, трагедию гибели товарищей он переживает легче, в будущей победе не сомневается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: