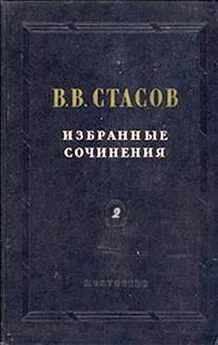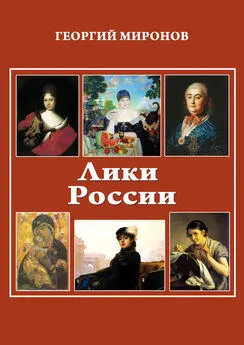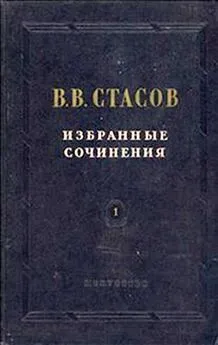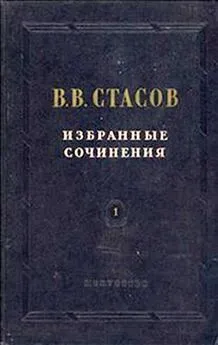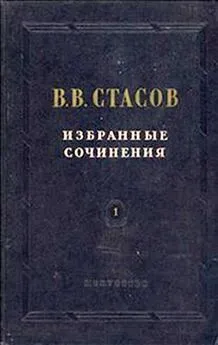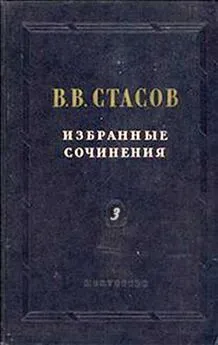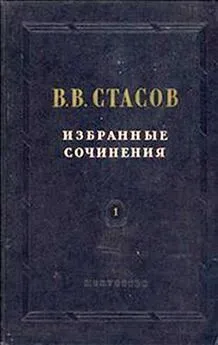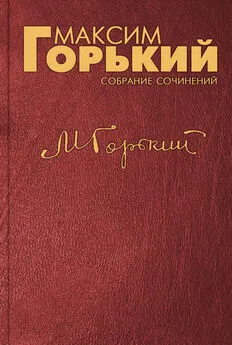Владимир Стасов - О значении Иванова в русском искусстве
- Название:О значении Иванова в русском искусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство Искусство
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Стасов - О значении Иванова в русском искусстве краткое содержание
историк искусства и литературы, музыкальный и художественный критик и археолог.
О значении Иванова в русском искусстве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иванов никогда не достиг великолепного колорита старых венецианцев, Тициана и других, на что так надеялся и о чем так постоянно хлопотал: кто не родился колористом, тот им, конечно, не сделается, несмотря ни на какие старания и усилия. В этом, впрочем, Иванов разделяет общую участь новых народов: не то, что у нас русских, но и у других народов Европы, вот уже лет триста не является талантов по части колорита, не только подобных старым венецианцам, но и просто крупных талантов по этой части. Значит, корить одного Иванова, преимущественно перед всеми другими, еще нельзя. Притом же сам Иванов, даже в 1858 году, считал свою картину „далеко неоконченного“ и привез ее в Россию, принуждаемый к тому недостатком средств и сильно пострадавшим зрением.
Но, кроме колорита, все остальное в его картине представляет ряд совершенств, высоко возносящих и его самого, и его создание в ряду художников и художественных творений, признаваемых повсюду наисовершеннейшими и наивысочайшими.
Нельзя не видеть разных недостатков картины Иванова — они бросаются в глаза. Так, например, крест в руках Иоанна Крестителя, присоветованный классиком Торвальдсеном, „мантия“ на нем, присоветованная пиэтистом-классиком Овербеком, портят общее впечатление. Затем мудрено также похвалить общее расположение фигур, которое имеет вид как будто бы скульптурный, почти барельефный; эту массу народа, искусственно пригнанную и сгруппированную на узком (в плане) и продолговатом пространстве; далее искусственно, хотя и чудесно, и изящно расположенные складки драпировок (например, на Христе, апостолах Иоанне и Андрее, и на еврее с косами на голове, в правом углу картины). Но разве эти самые недостатки не присутствуют у наивысших, наиталантливейших итальянских живописцев XVI века, даже у Рафаэлей, Леонардов да Винчи и прочих. Разие римские „Афинская школа“, „Disputa“, „Гелиодор“, „Аттила“ и гамптон-кортские картоны, разве сикстинский плафон и „Страшный суд“, разве миланская „Тайная вечеря“, наконец, сотни „Святых семейств“, где богоматерь с младенцем Иисусом сидит на троне, даже под балдахином, а около нее направо и налево помещаются очень регулярно разные священные личности, — разве все это не картины, расположенные скульптурно, почти барельефно, на узком, сжатом (в плане), продолговатом пространстве? Разве все эти, часто и в самом деле талантливые создания не признаются все-таки необычайнейшими и непостижимейшими творениями человеческого духа и таланта? Разве драпировки самых наилучших из числа этих картин, считаемых перлами искусства, не расположены очень преднамеренно и искусственно, — что, впрочем, не могло иначе и быть, так как никто таких одежд не носит, и живописец, никогда не видавший их употребления в жизни, должен из собственной головы выдумывать и прилаживать небывалые складки.
Все это недостатки, условленные самою сущностью дела. Кто говорит: „идеальность“ — говорит: „выдуманность“, или, по крайней мере, „придуманность“, „условность“. Иванов разделял общую участь и не подлежит большему взысканию, чем все остальные его товарищи, живописцы одной с ним категории.
Но Иванов нам дорог не за идеальную и не придуманную сторону своего таланта. Он нам дорог, как глубокий и правдивый наблюдатель существующего, как необыкновенно талантливый выразитель и природы, и людей, и типов, и характеров, и выражения душевного, и движений сердца. Здесь он становится вдруг так высоко, как немногие из всех его предшественников.
Письма Иванова (частью уже и вышеприведенные), а еще более — бесчисленные этюды с натуры, все в целости сохранившиеся, доказывают, как много изучал Иванов живую натуру для своей картины, как он, чтобы найти живую красоту нагого тела, усердно посещал купальни в Риме и Перуджии, ездил к берегам рек, к морю („видеть купающихся различного звания людей“, пишет Иванов в 1839 году отцу); как он, проникнутый идеей национальности, посещал синагоги и делал целые путешествия, чтобы увидать и схватить истинные еврейские типы: „Лица получили у него свое типическое, согласно евангелию, сходство, и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело“, — говорит Гоголь, свидетель работ и приготовлений Иванова. „Но как изобразить то, — продолжает он, — чему еще не нашел художник образца? Где мог он найти образец для того, чтобы представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу? Откуда он мог взять это? Из головы? Создать воображением? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображение. Иванов напрягал воображение, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движения душевные, оставался в церквах следить за молитвою человека“.
Что касается пейзажа, играющего такую важную роль в его картине, то про его изучения по этой части тоже рассказывает Гоголь: „Иванов просиживал по нескольку месяцев в нездоровых понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листок, словом — сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец“. Полное подтверждение словам Гоголя мы находим и в одном письме самого Иванова, в конце 1840 года, адресованном к сестре: „Я выехал (летом) в Субиако — городок, лежащий в горах Сабинских. Дикие и голые скалы, его окружающие, река чистейшей и быстротекущей воды, окруженной ивами и тополями, мне послужили материалами (для этюдов). Я радовался, видя их сродство с теми идеями, какие я приобрел, посредством книг, о Палестине и Иордане, и окружающих его деревьях и горах“. Иванов много раз порывался на Восток, в Палестину, — и случись это, конечно, он дал бы в своей картине подлинный иорданский пейзаж; но ему не удалось выполнить свою задушевную мысль (никакого сходства не имевшую с поездкой Гоголя в святые места), поэтому, естественно, он вынужден был остановиться на описаниях, на рисунках путешественников, на Субиако, который пришелся как нельзя более по той мысли, какую он себе составил о берегах Иордана. Другие местности Италии помогли ему дополнить и довести ее до возможной близости к оригиналу, глубоко постигнутому.
Истинного типа Христа, верного исторически, Иванов с изумительной настойчивостью искал во всех старейших изображениях, живописных и мозаичных, а когда, наконец, остановился на некоторых византийских изображениях, и всего более на одной мозаике палермского собора, — то потом долго искал его же в живой натуре, наконец, нашел живой итальянский субъект (по странной игре природы — женщину), чьи черты лица, до некоторой степени, напоминали бы, издалека, черты палермской мозаики. Так было и с другими главными личностями картины, апостолами: Иоанном Богословом, Андреем и другими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: