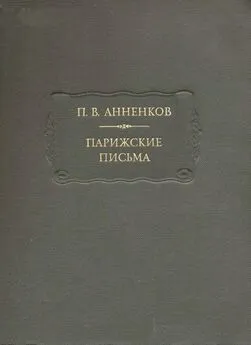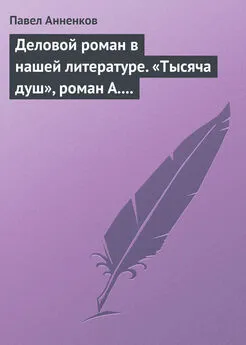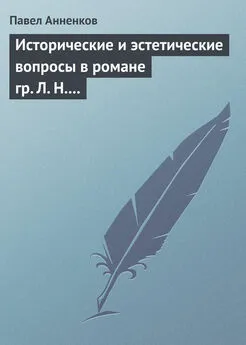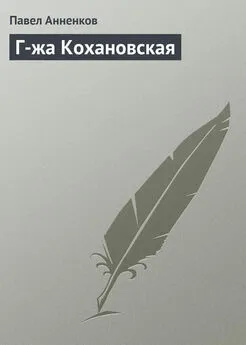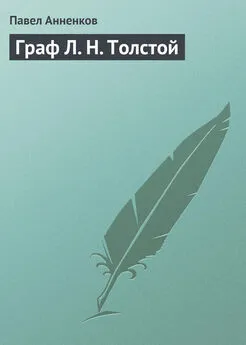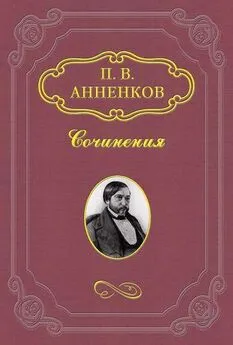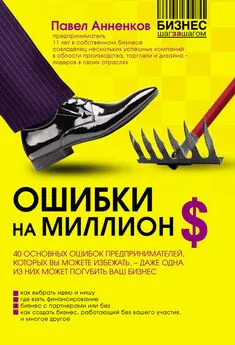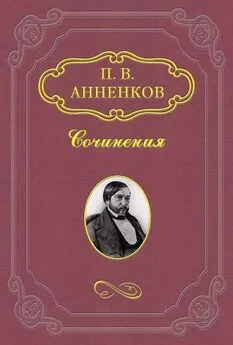Павел Анненков - Г-н Помяловский
- Название:Г-н Помяловский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Анненков - Г-н Помяловский краткое содержание
«Из ряда молодых писателей отделились два имени, на которых преимущественно рассчитывают журналисты и которые успели обратить на себя внимание если не публики, всегда неторопливой в выражении своих привязанностей и предпочтений, то, по крайней мере, записных рецензентов. Мы разумеем гг. Помяловского и Успенского…»
Г-н Помяловский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ошибка или какое-то странное недоразумение действительно существует и в произведении г. Помяловского. Нам кажется даже, что и сам автор имел смутное представление о них, когда в конце второго очерка делал оговорку, позволяющую считать изображенную им бурсу старой, уже почти несуществующей теперь бурсой. Принимаем замечание автора вполне: но что из того? Требования читателя остаются и при этом все те же, не изменяясь ни на волос от времени, в котором помещен рассказ. Мы, конечно, не имеем претензий знать настоящее положение дел в прежде бывших или нынешних бурсах лучше или полнее автора, но то знаем достоверно, что чудовищности, подобные тем, какие собраны г. Помяловским, никогда не жили и не будут жить без всякой помехи, без появления противоборствующего начала откуда-либо. Испокон века в каждом обществе, будь то общество учеников или общество полноправных граждан, существуют характеры, искупляющие злодейство и невежество окружающих; совести, если не совсем чистые от греха, то, по крайней мере, способные возмущаться крайними свидетельствами зверства и подлости; наконец, мерцающие проблески душевных сил, старающихся подняться выше обычая и позорного уровня, который им указан. Пусть все эти явления живут в какой вам угодно тайне, но они живут, и просмотреть их значило бы просмотреть именно самую существенную сторону дела. Это так верно, что с идеей закрытого воспитательного заведения, предполагая его даже обреченным на самый тяжелый бесконтрольный произвол начальников, какой только можно представить себе, уже непременно соединяется представление о неразрывных детских дружбах, о безумных самопожертвованиях, являющихся от времени до времени из среды забитых учеников для спасения товарищей, о молодых стойких головках, которых не сломит никакая сила, как только они сделались представителями понятия о чести, сложенных втихомолку самими школьниками. Педагогам закрытых заведений это должно быть хорошо известно. Все это не просто случайности, а именно признаки самородных нравственных начал, добытых учениками помимо воспитателя и которые служат им живой протестацией против господствующего порядка дел. Протестации эти выходят со стороны, не имеющей никакого голоса в совещаниях о методах лучшего воспитания и, однако ж, образуют силу, уничтожающую безобразные системы управления, также точно, как они же составляют и отрадные признаки внутренней способности заведения к переформировке и обновлению. Ничего подобного нет в вертепе душевного растления, изображенном г. Помяловским. Там все позорно чисто-начисто, а между тем очевидно, что с отсутствием всяких нравственных зародышей тиранство в стенах школы может бушевать на просторе и сколько душе его угодно. У беспомощных жертв его отнято последнее оружие, которым они борются со злом и притом такое, какое влагает в их руки, так сказать, природа – человеческое их происхождение. И когда автор показывает нам поколение, в полном и ужасающем смысле обделенное всеми средствами защиты, он становится виновен или перед искусством (ибо полное нравственное распутство без всякой силы, духовный идиотизм, вряд ли может сделаться предметом искусства), или перед самим поколением, если он ошибся и обесчестил его ложным свидетельством. Конечно, ни того, ни другого вопроса г. Помяловский не предчувствовал, когда принимался за свои очерки, но вот куда он был заведен, полагаясь только на природные силы своего таланта и еще не успев сделаться их полным распорядителем.
Заключение можно уже предвидеть. Бурса г. Помяловского не способна ни к чему, похожему на преобразование, улучшение, обновление. Когда воспитатели и воспитанники составляют одну касту злодеев и сообща участвуют в заговоре против всего, что напоминает моральную идею, способ их исправления представляется только в виде уничтожения целого учреждения, вместе со всеми его руководителями. Тут нечего и думать о реформах, потому что реформы производятся не иначе как с помощью и на основании здоровых начал, сбереженных в недрах своих самим обществом, требующим преобразований. Где в повсеместном растлении не уцелели эти семена нового, лучшего порядка вещей, там нет и реформ. Если в таком печальном положении находится воспитательное заведение, то условием и необходимостью прогресса становится не реформа, а простое искоренение его целиком, со всем большим и малым его населением. Как опасно при этом сделать ошибку в оценке заведения – не нужно и говорить. Сам г. Помяловский при всей своей уверенности не решился произнести окончательного приговора насчет позорной бурсы, им изображенной, потому что в той же оговорке, о которой мы уже говорили, он дает предчувствовать возможность появления новой смягченной картины преобразованного бурсацкого воспитания. На чем же могло тут утвердиться преобразование и откуда оно возникло? Если реформа действительно удалась по какой бы то ни было мере, то одно из двух: или основания для нее в образе каких-либо нравственных требований, уже таились на месте и нам не показаны, или то была не реформа, а нашествие нового племени учеников и наставников, которое повторило в малом виде роль варваров относительно Западной Римской империи, упразднило все старые предания и цели и начало собою другое миросозерцание; но предполагать это, конечно, было бы странностью. Дилемма остается во всей своей силе и тяготеет над малообдуманным произведением автора.
Надо сказать откровенно: значительное количество «воспоминаний», появляющихся теперь на страницах наших журналов, по большей части относящихся к характеристике учебных заведений, где протекла молодость их авторов, страдают тем самым тайным пороком, который мы старались обнаружить в произведении г. Помяловского. Достоверность их показаний не подлежит сомнению, точно так же как и род поучения, им свойственный, не может быть отрицаем. Но редкое из этих более или менее мрачных «воспоминаний» показывает семена и корни высшего развития, будущего прогресса, которые существовали в школе рядом со всеми злоупотреблениями ее и из которых выросли их собственное негодование, их критическое отношение к прошлому, их спасительная протестация. Можно подумать, что лучшее понимание задачи воспитания и обязанностей воспитателя получено ими случайно, из чужой руки, из прочитанной статьи, из общего обличительного направления времени, а не выросло вместе с ними еще на школьной скамье и не находится в связи с чувством справедливости и чувством отвращения к тупому произволу, полученным ими еще в стенах описываемого заведения. Простое обличение, не развлеченное никакими соображениями, конечно, представляет гораздо менее литературного труда для писателя, чем разбор дела, но ведь оно – обоюдоострый меч, который наносит точно такие же удары предмету своей ненависти, как и лицу, неловко им управляющему. Может быть, этого рода соображения пояснят пред читателем причину нашей долгой остановки над рассказами г. Помяловского.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: