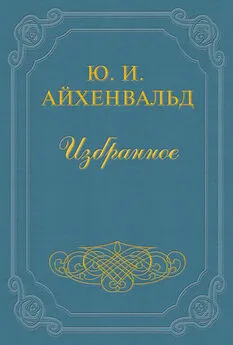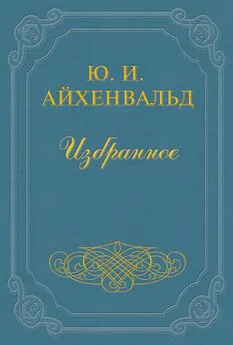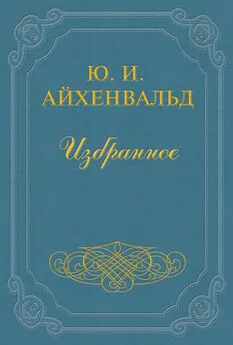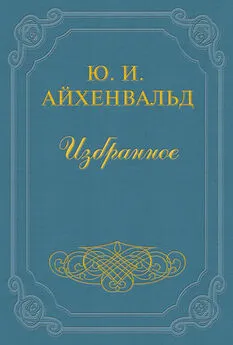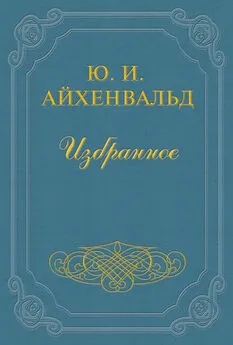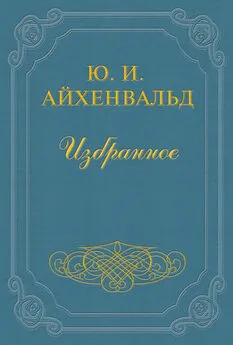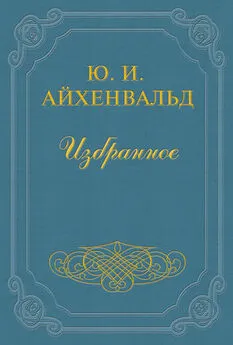Юлий Айхенвальд - Борис Зайцев
- Название:Борис Зайцев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлий Айхенвальд - Борис Зайцев краткое содержание
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…»
Борис Зайцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Юлий Исаевич Айхенвальд
Борис Зайцев
(Наброски)
На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч. Он душою своей возносится над «миром тесноты и тьмы», поднимается к Филону-философу, к предвечному божеству гностиков, но не гнушается и тем, что внизу. Это удивительное сочетание натурализма и поэтичности, эта наивная небрезгливость уверенного в себе хрустального писателя вызывает и в душе читающего то очищение, то аристотелевское «катарзис», от которого бесконечно далеки многие произведения современного слова. Чистый, насквозь пронизанный солнцем, верный сын его, Зайцев и сам пронизывает жизнь светом тихим, светом славы; он чувствует святость природы и человека, и это именно составляет его охрану, его палладиум в жизненных скитаниях, сквозь гущу грубой обыденности.
Он очень знает скорбь и горе; в «Спокойствии», например, неотразимо сильное и растрогивающее впечатление производит образ мальчика Жени, умирающего, не спасенного отцом-доктором. Был прекрасен этот Женя и благороден, «говорил литературно и с весом». Отец его, воплощенное и замкнутое в себе страдание, вдовец, так, внешне холодно, рассказывал о последних часах Евгения, своего единственного ребенка, единственного смысла своей угрюмой жизни: «Сегодня Евгений говорил мне: „Папа, я боюсь, как бы мне не умереть“… А потом Евгений обнял меня и говорит: „Папа, теперь я смерть вижу. Она вот там… Папочка, – говорит, – у меня холодают ножки. Погрей мне ножки, не давай меня смерти. Очень, – говорит, – прошу тебя: не давай!“ Так. Вот он мне и сказал это». Женя умер, но отец его остался жив и, обыкновенно серый и сдержанный, теперь просветлел, и слезы пошли по его лицу. Это и характерно для Зайцева: он чувствует страшное, и страшны его спокойные слова: «диагноз оказался простой – чахотка»; но мир посылает ему свои целительные волны, дает великое «спокойствие», не отдает его, как Женю, смерти, нравственной смерти и холоду. И один из самых страдающих героев, побеждая свое страдание, поднимаясь над болью своею, говорит: «Цветут ли человеческие души, – ты даешь им аромат; гибнут ли – ты влагаешь восторг. Вечный дух любви – ты победитель». Именно победительность духа любви слышится на страницах Зайцева, и когда стоишь вместе с ним, в его излюбленной Италии, на берегу Адриатики, то хочется провозгласить какую-то мировую здравицу, хочется «зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного далекого сердца, иной страны». Смерть и гибель, наши катастрофы и кровь – это не касается нас, это не доходит до самой глубины, до самой средины нашего существа; это не мы умираем, это не мы страдаем, это не нас убивают: все это разбивается о то благостное и великое «спокойствие», о ту сокровенную безмятежность, о то возвышенное, во что облекает нашу душу непобедимый дух любви. И погибая, мы не испытываем ужаса гибели, и на устах наших – молитва миру; и уходя из жизни, мы, изгнанники потерянного рая, благословляем его, славословим эту жизнь, слагаем ей проникновенные хоралы и говорим ей, что она благодатна и прекрасна, – несмотря на смерть Жени с холодеющими ножками, несмотря на измену любимой женщины и всюду проливаемую кровь. Пусть изменила эта Лина, красавица пышная, – но в душе у того кто ее любит, кого она разлюбила, воцаряется только «кроткая усталость» и покорное. Да будет благословенна любовь – за то, что она дала, за то, что она отняла, за свое прошлое и за свое настоящее; да будут благословенны все эти женщины! В чем их упрекать, за что ненавидеть? Их только можно любить «медленной, глубокой» любовью, с их белыми руками, с их жемчугом журчащим. Лину «зовет жизнь, она будет взята, она пройдет свой путь страсти, любви, наслаждения». Будет сидеть у ее ложа и страдать тот, кому она изменила, – но в этом есть свое счастье, свое «спокойствие».
Метерлинк учит нас, что мы ни в чем не виноваты, что к нашим преступлениям непричастно самое ядро нашей души: мы прирожденно чисты, мы – святые; все дурное, что мы делаем, это лишь дурной сон, тяжелый кошмар, и сестра Беатриса совсем не грешила там, в миру, вне стен монастыря, – это ей лишь казалось; на самом же деле, когда она ушла, в монастыре заняла ее место, приняла ее облик Мадонна, которая не только Богоматерь, но и сестра сестры Беатрисы, душа сестры Беатрисы. Наша душа – Мадонна, и Мадонна – это наша душа. От века невинная, своей незыблемой невинности обреченная, она, как нагая и наготы своей не стыдящаяся Монна Ванна, одета в самое себя, в покровы своей природы, – белая невеста; и оттого она с улыбкой проходит среди наших пороков и преступлений; она их не знала, не знает, – она ни в чем не виновата, и, таким образом, в основе своего духа, хотим ли мы этого или нет, – мы невинны. Так учит Метерлинк. Зайцев же, независимо, своими путями придя к тому же исповеданию, верит не только в конечную святость человека и благородную верность его, но и в его неминуемую счастливость, в его неизбежное спокойствие. Мы недосягаемы для отчаяния, и тщетны все усилия жизни вызвать его. За несколько дней до смерти, слабыми пальцами трогая цветы сирени, горько улыбается человек и вспоминает, что «никогда не мог найти в сирени пяти лепестков – счастья»; но потом он стал думать о Боге, о любимых женщинах и целует сирень, бледно-фиолетовую, с капельками росы. И когда он умирал и в своих объятиях держала его жена («жена моя, Надежда, верная жена»), он вдруг сказал, в небольшой перерыв между муками:
Те spectem suprema mihi cum venerit hora,
Те teneam moriens deficiente manu — [1].
и поцеловал жене руку. И взглянув ей в лицо, произнес: так. Утром он умер. Последнее человеческое слово: так. Мы утверждаем, и это тем более, что мы никогда не закончены, не ограничены и нам принадлежит весь мир, а он – неисчерпаемая житница утешений. Герой Зайцева далек от своей родной России, он в Италии: «эта страна – чужая, но как он близок ей!» «Да, я в чужой, но и в своей стране, потому что все страны – одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую». Все страны – одного хозяина, и везде человек дома. Поэтому именно входит мир в его растроганное сердце, и, когда перед ним расстилается город и «русская, светло-осенняя даль», он переживает светлое, «просторное» настроение и думает: «Там живут тысячи людей, и я живу, плету с другими бедную свою нить… Он стоял. Тихо было в сердце… Уйти в мир бескрайный, светлый, скорбный; в безвестность, бедность, одинокую жизнь. И, зная час свой, принять его с улыбкой – незримая свеча в глубине сердца. Жизнь, смерть – привет. Любовь – благословенье».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: