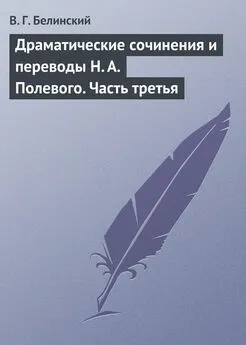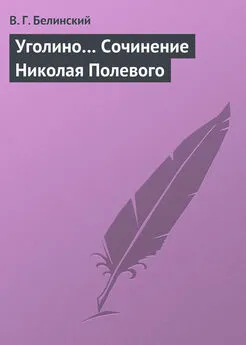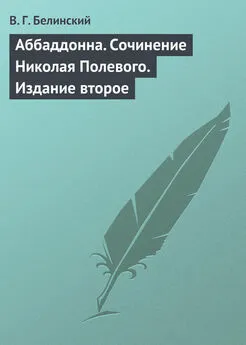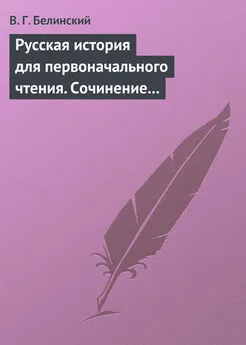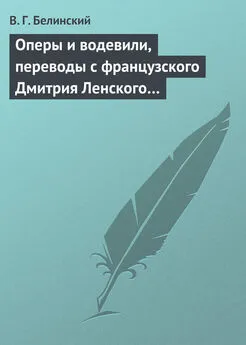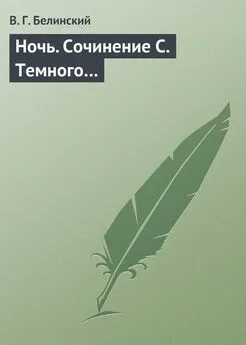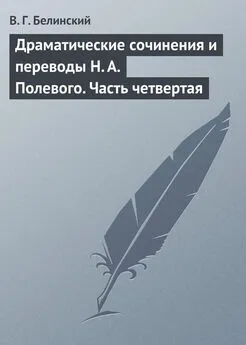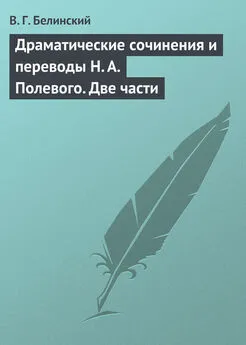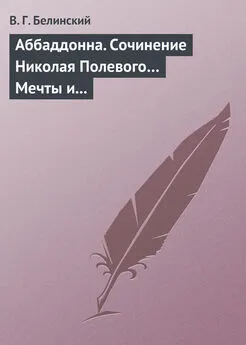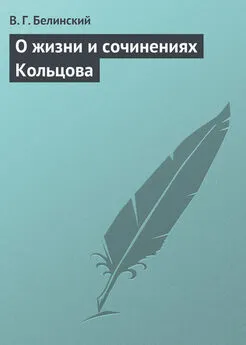Виссарион Белинский - Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого. Часть третья
- Название:Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого. Часть третья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виссарион Белинский - Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого. Часть третья краткое содержание
«…Все драмы г. Полевого, имевшие успех, доказывают, что у нас всякое произведение, вовсе чуждое художественного достоинства, но основанное на патриотическом чувстве, будет всегда иметь успех в нашей публике. Зрители, смотря на такую драму, рукоплещут не пиесе, не автору, а своим собственным чувствам, которые в них затронуты, а затронуть их в русском народе не много надобно искусства…»
Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого. Часть третья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почтенный Н. А. Полевой пишет, как говорят, полосами. О чем речь в публике, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналов, Н. А. издавал журнал; была мода на Шеллингову философию и политическую экономию – он писал о философии и политической экономии. Настала мода на романы, он стал писать романы. Альманахи ввели в моду оригинальные повести – Н. А. стал писать повести. Заговорили об истории, – вот есть и история; наконец, вкус высшего сословия и публики явно обратился к театру, и Н. А. Полевой пишет трагедии, драмы, драматические представления, драматические были и водевили. Пишет он так много, что мы не можем постигнуть, когда он выбирает время, чтобы читать и учиться! Н. А. Полевой человек умный и удивительно смышленый. Он не может написать ничего решительно дурного, а между тем написал он много хорошего. Что он ни напишет, во всем пробивается то талант, то сметливость, то ловкое подражание, и все приноровлено к понятиям большинства. Невозможно быть беспристрастнее нас к Н. А. Полевому, и, невзирая на прошедшее, мы всегда отдаем справедливость его таланту, уму, трудолюбию, а больше всего его сметливости, в которой он не имеет равного в нашей литературе [3].
Совершенная правда! Так как пришлось к слову, заметим тут же, что этою действительно удивления достойною сметливостью обладает, между русскими литераторами, не один г. Полевой: отдавая ему полную справедливость, мы не должны же быть несправедливы и к г. Булгарину, тоже обладающему замечательным талантом в этом роде. Вся разница в характере таланта: г. Полевой больше устремляется, как справедливо замечает «Москвитянин», туда, где совершилось падение какого-нибудь рода словесности; г. Булгарин, напротив, является неожиданно большею частию после какого-нибудь успеха посредством литературного оборота. В то время как мода на альманахи заставляла г. Полевого писать повести, – их писал и г. Булгарин; успех альманахов заставил г. Булгарина издать «Талию»; [4]удачная подписка на не конченную доселе «Историю русского народа» [5]имела своим следствием неудачную и тоже не конченную «Россию» г. Булгарина; успех «Посредника» родил «Эконома»; успех «Наших» произвел «Картинки русских нравов»; политипажная история Суворова г. Полевого породила «Романтические сцены из жизни Суворова» с политипажами же, которые, говорит г. Булгарин, скоро явятся в свет; успех драматических «представлений» г. Полевого на Александрийском театре породил неуспешную, впрочем, «Шкуну Нюкарлеби». Подражая всему успешному, г. Булгарин иногда огорчается, если видит, что задуманное им «успешное» – упреждается чужим «успешным», особенно «успешнейшим». Так, например, «Юрий Милославский» упредил выходом «Димитрия Самозванца» – и за то навлек на себя довольно грозную критику в «Северной пчеле». Равным образом, г. Булгарин не любит совместничества: просим читателей вспомнить известную историю о капустных кочерыжках… [6]
Возвратимся к «представлениям» г. Полевого в изданном ныне третьем их томе.
Этот третий том содержит в себе «Гамлета» – драматическое представление Виллиама Шекспира, и «Уголино» – драматическое представление Николая Полевого. Хотя «Гамлет» только перевод г. Полевого, но и его можно счесть за сочинение, ибо сущность всякого произведения составляет его дух, а в переведенном г-м Полевым «Гамлете» Шекспира – нет нисколько шекспировского духа: переводчик заменил его собственным своим. Поэтому «Гамлет» так же точно есть сочинение г. Полевого, как и «Уголино»: в обоих один дух, одна манера, – и если Шекспир более или менее виноват в «Гамлете» г. Полевого, то он же более или менее виноват и в «Уголино»: ибо в каком отношении находится «Гамлет» г. Полевого к «Гамлету» Шекспира, в таком же точно отношении находится «Уголино» г. Полевого к «Ромео и Юлии» Шекспира… Многие считают это отношение весьма похожим на отношение пародии к оригиналу… Мы сказали, что сущность всякого произведения заключается в его духе, и потому должны характеризовать дух «Гамлета» и «Уголино». С этой точки зрения, оба эти произведения чрезвычайно интересны, потому что оба они – родовые, типические явления в области русской литературы.
Иные слова, по особенным обстоятельствам, получают впоследствии совсем другое значение, нежели какое имели вначале и какое назначила им выражать этимология языка. Так, например, русское слово «чувствительный» сперва означало человека с чувством, с душою; следовательно, оно имело похвальное значение. Но сентиментальность, овладевшая нашею литературою и нашим обществом в конце прошлого и начале текущего столетия, дала слову «чувствительный» ироническое значение, так что теперь говорят «человек с чувством» и уже не говорят «чувствительный человек», ибо последнее означает слезливого воздыхателя, аркадского пастушка в соломенной шляпе, с розовыми лентами на груди, – лицо, некогда известное в русской литературе под именем Эраста Чертополохова [7]. Таким же точно образом у немцев выражение «прекрасная душа» (schone Seele) и произошедшее от него неловкое в русском переводе слово «прекраснодушие» (Schoneseelichkeit) получили, в последнее время, совершенно противоположное значение. Слово «прекрасная душа» у немцев выражает собою понятие о тех слабых и поверхностных характерах, которые исполнены энтузиазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могут понять хорошенько, в чем состоит и что такое это «высокое» и «прекрасное», от которого они всегда в таком восторге. Сердце у этих людей действительно доброе, ума в них также отрицать нельзя; но они лишены всякого такта действительности. Они узнают высокое и прекрасное только в книге, и то не всегда; в жизни же и в действительности они никогда не узнают ни того, ни другого и от этого скоро во всем разочаровываются (любимое их словцо!), холодеют душою, стареются во цвете лет, останавливаются на полудороге и оканчивают тем, что или (и это по большой части) примиряются с действительностию, какова бы она ни была, то есть с облаков прямо падают в грязь; или делаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно они смешны и жалки в том и другом случае; но в первом они бывают иногда уж и не жалки, а скорее страшны своим примирением с действительностию… [8]Не разочаровываться им невозможно: ибо у них идеал не имеет ничего общего с действительностию и не способен к осуществлению на деле. Если этот идеал – дева, то непременно неземная, которая не ест, не пьет и не хворает, питаясь одними высокими чувствами, любовью, восторгом, вдохновением и пр. И потому в девах они наиболее разочаровываются: неспособные понять и оценить ничего, что просто, без претензий и без эффектов, прекрасно, они всего чаще привязываются к ничтожным созданиям – и умножают число несчастных браков по страсти. Если этот идеал – друг, то горе ему: самолюбие – болезнь «прекрасных душ» потребует от него, чтоб он отказался от себя и беспрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдал бы его страданиями, радовался его радостями, а о себе не думал бы вовсе: в противном случае он – эгоист, холодная душа, разочарователь. Идеал блаженства любви «прекрасных душ» – пустыня вдали от людей, природа, прогулки при луне, вздохи, поцелуи и – больше всего – совершенное бездействие. Они вечно стремятся туда, а здесь недовольны всем: люди их не понимают, жизнь для них пошла, ибо в ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и труд. Труда они не любят в особенности: в нем так много прозы, а они хотят дышать одною поэзиею.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: