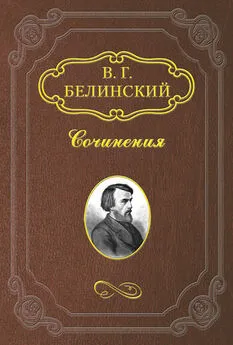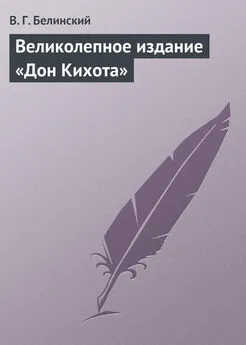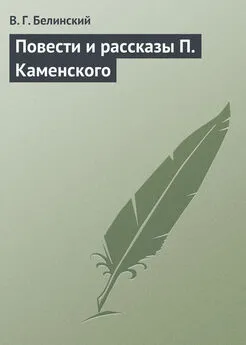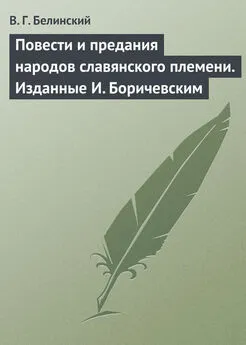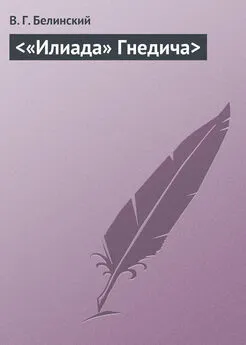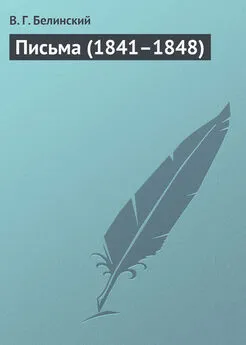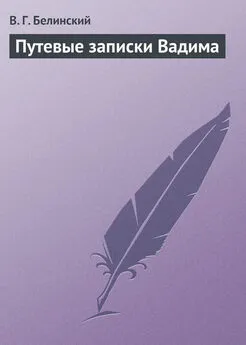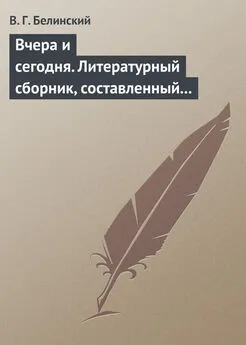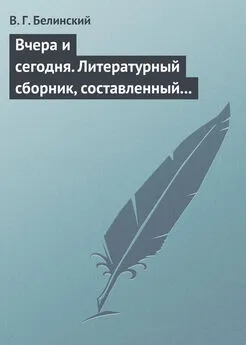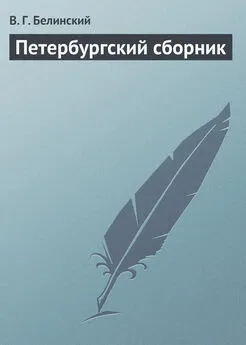Виссарион Белинский - Славянский сборник
- Название:Славянский сборник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виссарион Белинский - Славянский сборник краткое содержание
Н. В. Савельев-Ростиславич – историк, воспитанник Московского университета, ученик Ф. Л. Морошкина и последователь Ю. И. Венелина. Его «Славянский сборник» посвящен критике и разоблачению «норманнской теории» происхождения Руси. Как и Венелин и Морошкин, Савельев-Ростиславич был склонен к различным фантастическим гипотезам, касавшимся древнейшего периода славянской истории. Белинский считает споры норманистов и антинорманистов в значительной степени не заслуживающими особого внимания. Подвергая в статье критике и осмеянию прежде всего приемы искусственной историко-археологической интерпретации древнейших сведений о Руси и славянах в работах Венелина, Морошкина и Савельева-Ростиславича, Белинский вместе с тем не совсем правомерно обращает свою статью против славянофильства как направления общественной мысли в России 1840-х гг. в целом.
Славянский сборник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Забавнее всего, что г. Савельев-Ростиславич, после выписки из Ломоносова, восклицает:
Итак, вот на чем хотел основать свою историческую критику Ломоносов. Сравнение тех времен с нынешними, естественное течение бытия человеческого, то есть естественность и логическая возможность событий, и наконец примеры прошедшего, после чего и филология составляет уже «не бессильное доказательство», но только тогда, когда опирается на свидетельство древних, согласна с истинными основаниями, извлекаемыми из рассмотрения времен уже чисто исторических, вполне известных. Какое безмерное расстояние от Байера (,) Миллера и самого Шлецера! {24}
Именно – безмерное! Байер, Миллер и Шлецер могли и ошибаться, но они всегда понимали сами, что говорили, и их всегда можно понимать, даже иногда и не соглашаясь с ними…
Следить шаг за шагом за мыслями, или, лучше сказать, за мечтами, г. Савельева-Ростиславича нет возможности: это и скучно и бесполезно. Сверх того, мы ведь и взялись не опровергать его (это не стоило бы труда), а только показать и обнаружить нелепость славянофильского направления в науке, – направления, не заслуживающего никакого внимания ни в ученом, ни в литературном отношениях, но очень любопытного… в психологическом отношении… И потому будем указывать на особенно курьезные места в книге г. Савельева-Ростиславича.
Вот образчик ученого достоинства, литературной вежливости и гуманного образования г. Савельева-Ростиславича: разругав г. Полевого за то, что он в своем «Телеграфе» расхвалил сочинение г. Погодина «О происхождении Руси», и сказав, что г. Погодин, в благодарность за это, объявил г. Полевого человеком, не способным связать в порядке двух идей {25}, – г. Савельев-Ростиславич так продолжает говорить о г. Полевом: «Сметливый журналист, ради потехи почтеннейшей публики, особенно из недоучившихся купеческих сынков, придумал особое название квасного патриотизма и под(т)чевал им всех несогласных с рейнскими идеями, перенесенными целиком в «Историю русского народа»«, и пр. (стр. LXXXV). Мы понимаем, что название квасного патриотизма, по известным причинам, должно крепко не нравиться г. Савельеву-Ростиславичу; но тем не менее остроумное название это, которого многие боятся пуще чумы, придумано не г. Полевым, а князем Вяземским, – и, по нашему мнению, изобрести название квасного патриотизма есть большая заслуга, нежели написать нелепую, хотя бы и ученую, книгу в 700 страниц. Мы помним, что г. Полевой, тогда еще не писавший квасных драм, комедий и водевилей, очень ловко и удачно умел пользоваться остроумным выражением князя Вяземского {26}, но совсем не против только противников шлецеровского учения о варяго-руссах, а против всех тех непризванных и самозваных патриотов, которые мнимым патриотизмом прикрывают свою ограниченность и свое невежество и восстают против всякого успеха мысли и знания. Со стороны г. Полевого это заслуга, которая делает ему честь. Но г. Полевой принял мнение Шлецера о скандинавском происхождении, – и ему уже никак не оправдаться перед неумолямым к такому ужасному преступлению г. Савельевым-Ростиславичем. По мнению последнего, «История русского парода» не могла не быть дурною уже потому, что автор ее последовал Шлецеру, и г. Савельев-Ростиславич повторяет, кстати, плоскую, пошлую и старую остроту, что Нибур умер от прочтения посвященной ему «Истории русского народа», – остроту, которая так идет к такой ученой книге, каков «Славянский сборник»… Но ведь и Карамзин преимущественно держался мнения Шлецера, хотя и дал место в своей истории другому мнению: отчего же г. Савельев-Ростиславич находит хорошие качества в «Истории государства Российского»? – На это у него есть достаточная причина: на страницах CCVIII и CCIX-й мы узнаём от него самого, что он, г. Савельев, «решился посвятить все способности (чьи?) разработаняю (разработыванию?) отечественной истории, в память единственного нашего русского историографа, Николая Михайловича Карамзина, который прислал ему, новорожденному, бессмертный труд свой с надписью: маленькому тезке, может быть (,) также будущему историку…» Видите ли, что значит подарок вовремя и кстати: и Карамзина «История» сделалась бессмертною, несмотря на шлецеровские идеи, принятые ею за основание, и г. Савельев, маленький тезка великого писателя, сделался также историком… О великокутская наивность!..
Отделав г. Полевого, наш рыцарь Великого Кута принимается за г. Погодина. И поделом ему, г. Погодину: зачем он Шлецеру верит больше, чем гг. Венелину, Морошкину и Савельеву! Вот как он отделывает его, мимоходом не давая спуска и тезке своему Карамзину, несмотря на подарок:
Фантастическо-ученое построение древней русской истории, наперекор Несторовой летописи. Некогда в «Московском вестнике» г-н Погодин писал об «Истории государства Российского»: «Карамзин велик как художник-живописец, хотя его картины часто похожи на картины того славного итальянца, который героев всех времен одевал в платье своего времени; хотя в его Олегах и Святославах мы видим часто Ахиллесов и Агамемнонов расиновских. Как критик, Карамзин только что мог воспользоваться тем, что до него было сделано, особенно в древнейшей истории»: вот уж, право, излишняя снисходительность! Следовало сказать: Карамзин не умел воспользоваться открытиями Байера, что новгородцы суть кабардинцы, а бужане – татарские буджаки, или что Витичев на Днепре есть Витебск (на Двине); не умел воспользоваться и тем, что сделано для древнейшей истории Миллером, особенно касательно превращения царя Додона в скандинавского бога Одина. а Бовы-королевича в Бауса Оденовича; не умел воспользоваться и открытиями Струве, что Перун славянский именно есть скандинавский Тор; не умел воспользоваться и гипотезою Шлецера. что у нас на юге был особый азиятский народ, Rhos, неизвестная орда варваров, которые показались на западе и исчезли; шли с востока, но неизвестно откуда; названы россами, но неизвестно почему; прогнаны опять в свои пустыни не европейским просвещенном или храбростью, но случаем, только неизвестно куда; не умел воспользоваться гениальною мыслью рейнского патриотизма о внутреннем быте славян и значении русского славянского племени, забытого до IX века отцом человечества: не умел воспользоваться удивительно высокою мыслию об основании русского царства шайкою дерзких разбойников, жестоких шведских грабителей, призванных по неосторожности грубыми славянами в ландманы; не умел воспользоваться превосходными соображениями о том, как Елена перешла в католичество, потому что в Царь-граде все знакомые померли; наконец, следовало сказать: Карамзин не только не умел воспользоваться ни одною из этих ученых идей, но даже осмелился заметить, что Байер уважал сходство имен, недостойное замечание, и худо знал географию; что Миллер повторял датские сказки и что у Шлецера народы падают с неба и скрываются в землю, как мертвецы по сказкам суеверия… В самом деле, какой же ограниченный человек был Карамзин, не постигавший величия Байера, Миллера и Шлецера!.. Но послушаем Михаила Петровича: «Как философ, он имеет еще меньше достоинств, и ни на один философский вопрос не ответят мне из его «Истории». Апофегмы Карамзина в «Истории» суть большею частию общие места. Взгляд его на историю как науку неверный, и это ясно видно из предисловия». В чем состоит неверность взгляда Карамзина, несправедливость общих мест его «Истории» и какие философские вопросы занимали ум почтенного профессора, – любители истории не узнали, потому что и доныне еще не увидела свет божий обещанная профессором (1829) книга «Карамзин, собрание статей, относящихся до «Истории»«. Вместо ее Михаил Петрович начал упражняться в стихах и прозе: от профессора истории, так строго осудившего славное творение историографа, все русские ждали доказательств; но вместо разбора Карамзина в 1830 году явилась «Марфа Посадница новгородская», трагедия в 5 действиях, в стихах. Почтенный профессор хотел испытать свои силы в историческом роде, а именно: когда бессмертная Екатерина ввела при дворе русский язык, то за каждое иностранное слово, употребленное в разговоре, определялось в виде наказания – выучить 100 стихов из «Тилемахиды»; в наше время, при славном внуке Екатерины Великой, русская народность опять воскресает; но если бы, для введения в общество русского языка, введено было подобное же наказание, то где современная «Тилемахида»? Почтенный профессор истории чувствовал этот важный недостаток и – удачно восполнил его знаменитою «Марфою Посадницею», написанною такими стихами, какие уже не показывались со времен «Тилемахиды» Василья Кирилловича. – В 1832 году вышли «Повести Михаила Погодина» (в 3 частях), написанные почтенным автором в дидактическом роде: ловкий и остроумный профессор истории хотел представить очевидное доказательство, что у кого нет ни слога, ни воображения, ни глубины мысли, тому не должно писать повести. Убедив себя и читателей в этой великой истине, он решился опять испытать свои силы в стихах a la Trediakowsky и с этою целию написал драму «Петр Великий», которая доныне остается ненапечатанною, хотя отрывки и явились было к русским читателям: почтенный профессор истории убедился наконец на опыте, что пародия на стихи и на шекспировское создание из жизни бессмертного императора была бы только оскорблением памяти великого человека, и потому, как русский патриот, обрек свою драму на вечное забвение. В благодарность за это русские почитатели г. Погодина уже терпеливо стали ждать появления давно обещанного исторического творения. В 1835 году они с радостью прочли объявление, что вышла «История в лицах о Димитрии Самозванце, сочинение М. Погодина», но почтенный профессор истории на этот раз вздумал пошутить: под именем «Истории в лицах» он попотчевал своих читателей опять драмой, только в прозе. Это сочинение, кажется, написано автором с благою целию – решительно и окончательно убедить всех своих друзей и почитателей в совершенной неспособности писать драму, даже в прозе. Успешно достигнув этой цели, почтенный автор принялся отделывать «Историю», как философ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: