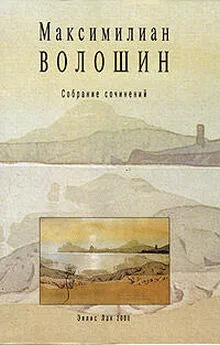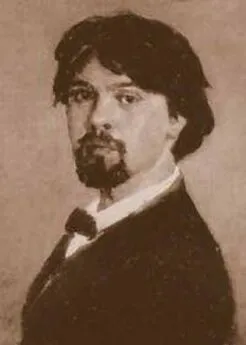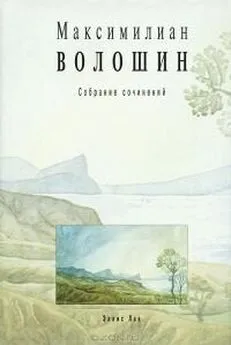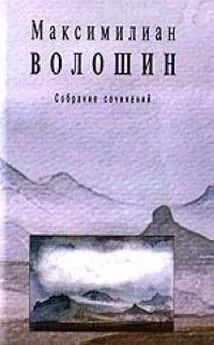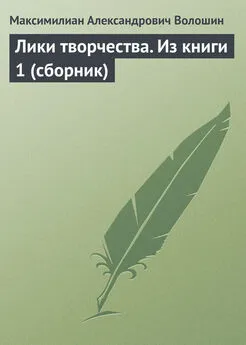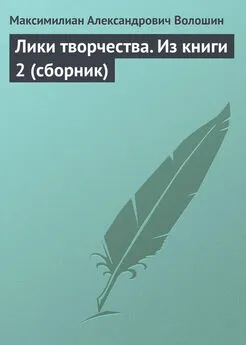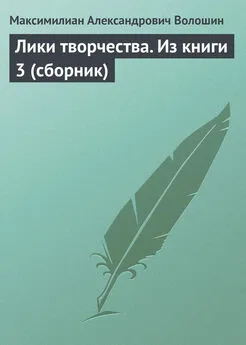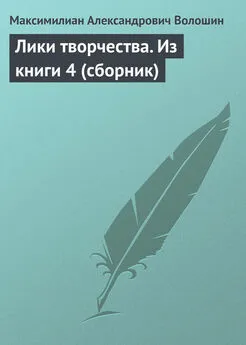Максимилиан Волошин - Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
- Название:Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-902152-05-4, 5-902152-27-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максимилиан Волошин - Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков краткое содержание
Настоящее издание – первое наиболее полное, научно откомментированное собрание сочинений Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) – поэта, литературного и художественного критика, переводчика, мыслителя-гуманиста, художника. Оно издается под эгидой Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и подготовлено ведущими волошиноведами В. П. Купченко и А. В. Лавровым.
Третий том собрания сочинений М. А. Волошина включает книги критических статей, вышедших в свет при жизни автора («Лики творчества: Книга первая», «О Репине»), а также книгу «Суриков», подготовленную им к печати, но в свое время не опубликованную.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Театр всецело зависит от уровня понимания своей публики и служит в случае своего успеха точным указателем высоты этого уровня для своего времени.
Театр осуществляется не на сцене, а в душе зрителя.
Таким образом, главным творцом и художником в театре является зритель. Без утверждения его восторга ни один замысел поэта, ни одно воплощение актера, как бы гениально ни были они задуманы, не могут получить своего осуществления.
Это создает для художников театра совершенно иные условия работы, чем в других искусствах. Здесь не может ставиться цель опередить свое время. У них одна задача, и более трудная и более глубокая, – понять и изучить основные струны души своего поколения настолько, чтобы играть на них, как на скрипке.
Необходимость считаться с моральным и эстетическим уровнем своего времени вынуждает драматургов к известной примитивности и упрощенности, а одновременно создает то, что спустя века они являются для нас гениальными не только личным своим гением, но и гением всей своей эпохи.
Каждая страна и каждое десятилетие имеют именно тот театр, которого они заслуживают. Это нужно понимать буквально, потому что драматическая литература всегда находится впереди своей эпохи.
За последние годы постоянно приходится слышать жалобы театральных режиссеров на переживаемый кризис театра.
«Нельзя ли заменить актера каким-нибудь более подходящим материалом?» – спрашивают одни.
«Если драматурги не дают нам того, что нужно для сцены, то мы обойдемся и без них», 4– заявляют другие.
Такое отрицание то одного, то другого из трех элементов, составляющих театр, свидетельствует о том, что разлад действительно существует.
Поэт, актер и зритель не находятся в достаточном согласии между собою, чтобы встретиться в едином миге понимания.
Режиссер по своему положению в театре является носителем замысла драматурга, руководителем творчества актера и пониманием идеального зрителя. Он тот, для кого театр является таким же простым искусством, как лирика для поэта и картина для живописца. Он объединяет в себе триаду театра. Поэтому в эпохи процветания театра, т. е. полной гармонии элементов, режиссер не виден, не ощутим и неизвестен. Он исполняет свое дело незаметно. Слабый нажим правящей руки – и его роль исполнена. Ему не нужно ни инициативы, ни изобретательности.
Но если начинается разлад между зрителем, актером и автором, то режиссер силою вещей выдвигается на первое место. Он ответственен за равновесие сил в жизни театра и потому должен восполнить то, чего недостает в данный момент.
Нервность, изобретательность и талантливость современных режиссеров больше, чем все иные признаки, свидетельствуют о разладе театра.
Одни режиссеры видят корень зла в несовершенстве актера, другие – в невежестве драматургов относительно условий и потребностей сцены. Правы и те, и другие. Но то, что и актеры разучились играть и драматурги – писать, указывает, что это два разветвления одной причины, которую надо искать в душе зрителя.
Постараемся взглянуть на организм театра, взяв точкой опоры не драматурга, не актера, а зрителя.
История возникновения театра из Дионисовых действ, 5так, как ее представляют в настоящее время, является в виде постепенного отказа участников священной оргии от активности посредством выделения из своей среды сперва хора, потом одного, двух и, наконец, многих актеров.
Театр возникает из очистительных обрядов. Бессознательные наплывы звериной воли и страсти, свойственные первобытному человеку, пронзаются музыкальным ритмом и находят исход в танце. Здесь и актер, и зритель слиты воедино. Затем, когда хор и актер выделяются из сонма, то очистительный обряд для зрителя перестает быть действием, а становится очистительным видением, очистительным сновидением. Зритель современный остается по-прежнему тем же бессознательным и наивным первобытным человеком, приходящим в театр для очищения от своей звериной тоски и преизбытка звериных сил, но происходит перемещение реальностей: то, что он раньше совершал сам действенно, теперь переносится внутрь его души. И сцена, и актер, и хор существуют реальным бытием лишь тогда, когда они живут, преображаясь в душе зрителя.
Театр – это сложный и совершенный инструмент сна. 6
История театра глубоко и органически связана с развитием человеческого сознания. Сперва кажется, что с самого начала истории мы застаем человека обладающим одним и тем же логическим – дневным сознанием. 7Но мы знаем, что был же когда-то момент, когда «обезьяна сошла с ума», чтобы стать человеком. 8Космические образы древнейших поэм и психологические самонаблюдения говорят о том, что наше дневное сознание возникло постепенно из древнего, звериного, сонного сознания. Грандиозные, расплывчатые и яркие образы мифов свидетельствуют о том, что когда-то действительность иначе отражалась в душе человека, проникая до его сознания как бы сквозь туманную и радужную толщу сна.
Если же мы сами станем анализировать свое собственное сознание, то мы заметим, что владеем им лишь в те минуты, когда мы наблюдаем, созерцаем или анализируем. Когда мы начинаем действовать, грани его сужаются, и уже всё, что находится вне путей наших целей, достигает до нас сквозь толщу сна. Дневное сознание совсем угасает в нас, когда мы действуем под влиянием эмоции или страсти. Действуя, мы неизбежно замыкаемся в круг древнего сонного сознания, и реальности внешнего мира принимают формы нашего сновидения.
Основа всякого театра – драматическое действие. Действие и сон – это одно и то же.
Внутренний смысл театра нашего времени ничем не разнится от смысла первобытных Дионисовых оргий. Как те очищали человека от избытка звериной действенности и страсти, переводя их в ритм и в волю, так и современный театр освобождает зрителя от тяготящих его позывов к действию. Средства изменились и утончились: то, для чего надо было приводить себя в состояние музыкального исступления, стало совершаться посредством творимого искусством сновидения.
Зритель видит в театре сны своей. звериной воли и этим очищается от них, как оргиасты освобождались танцем.
Отсюда основная задача театра – являть воочию, творить сновидения своих современников и очищать их моральное существо посредством снов от избытка стихийной действенности.
С этой точки зрения идеи о воспитательном значении театра получают новое освещение. Театр действительно служит делу утверждения общественности и гражданственности, но вовсе не проповедью тех или иных идеалов, вовсе не моральными и героическими примерами (это всё «литература», ничего общего с театром не имеющая), а выявлением тех преступных инстинктов, которые противоречат требованиям «закона» данного исторического момента. Любой театральный спектакль– это древний очистительный обряд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: