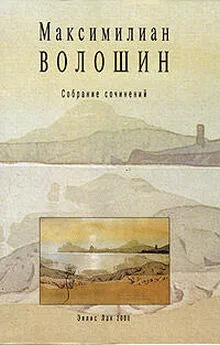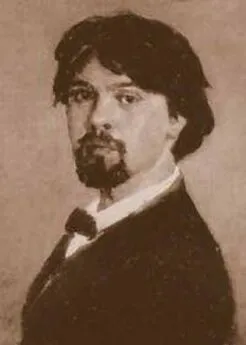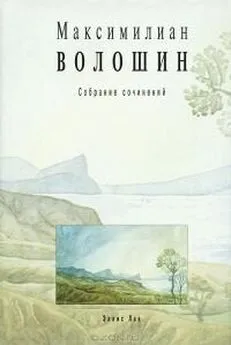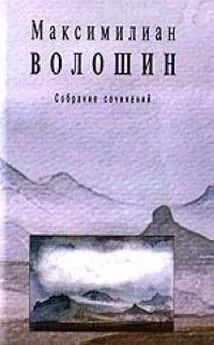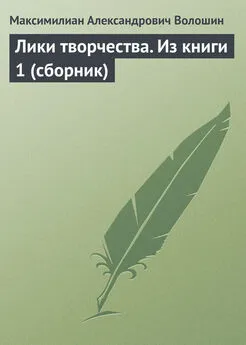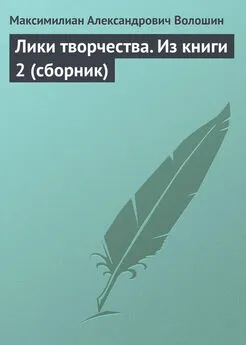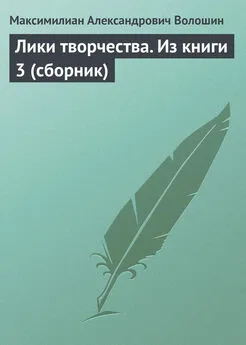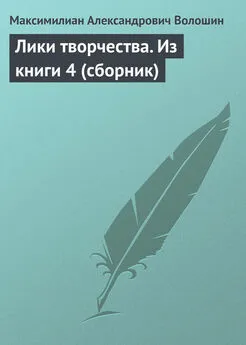Максимилиан Волошин - Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
- Название:Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-902152-05-4, 5-902152-27-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максимилиан Волошин - Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков краткое содержание
Настоящее издание – первое наиболее полное, научно откомментированное собрание сочинений Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) – поэта, литературного и художественного критика, переводчика, мыслителя-гуманиста, художника. Оно издается под эгидой Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и подготовлено ведущими волошиноведами В. П. Купченко и А. В. Лавровым.
Третий том собрания сочинений М. А. Волошина включает книги критических статей, вышедших в свет при жизни автора («Лики творчества: Книга первая», «О Репине»), а также книгу «Суриков», подготовленную им к печати, но в свое время не опубликованную.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возражения А. К. Топоркова:
«Критика М. А. Волошина основана на различии и противоположении понятий натурализма и реализма. Первый есть изображение внешнего, случайного, несущественного, второй – изображение внутреннего, существенного, необходимого. Насколько такой метод может быть правилен в абстракции, настолько же он мне кажется недостаточным при конкретном рассмотрении художественного произведения, ибо всякое истинное художественное произведение есть некая Целость, обнимающая множество соподчиненных моментов, различаемых отвлекающим рассудком, но единых в едином эстетическом созерцании. Подобно тому как в пере павлина, одном и том же, глаз усматривает бесконечное многообразие оттенков, переходящих один в другой, так же и созерцание художественного памятника есть усмотрение бесконечности заложенных в нем ценностей. С этой точки зрения натурализм и реализм не только не противоположности, но необходимо требуют и взаимно переходят друг в друга. В самом внешнем мы усматриваем внутреннее, которое в этом внешнем проявлении реализуется, сквозь облик мы зрим самую вещь, как она есть в себе. Натуральное, в полной свой выявленное™, содержит реальное, символическое и даже мистическое. Лучшие страницы Льва Толстого могут служить тому достаточным примером.
Точно так же и в разбираемой картине, может быть, прежде всего бросается в глаза ее беспощадный натурализм. Картина есть изображение несчастного случая, результата внезапной вспышки гнева. Но за несчастным случаем, за ужасом голого факта, вскрывается трагедия человеческого бытия вообще. В жестах, позах, в сцепленности изображенных лиц обнаруживается любовь несчастного отца, незлобивое прощение жертвы. Здесь трагедия всех людей, их роковой разъединенности в злобе и вражде и соединения в любви.
Мне кажется поэтому, что референт слишком аналитически подошел к картине и что ее живое единство, ее душа осталась чуждой критику».
После окончания речи Топоркова снова говорил Д. Бурлюк. Привожу его слова в собственном его изложении, сделанном по моей просьбе:
«Краткое изложение моей речи на диспуте „Б. В.“ 12-го февраля.
М. Г.! Картина, как и человек, имеет свое рождение, жизнь и смерть. Часто это протекает спокойно, без катастроф, но иногда жизнь пресекается каким-либо несчастным случаем. Это маленькое рассуждение может служить утешением в катастрофе, постигшей картину Репина. Вывод: на порезанную картину надо смотреть как на несчастный случай. Балашов сумасшедший (Репин ушел в этом месте моей речи) – а всякие подозрения „декадентов“, главарей нового искусства, – „мания преследования“. Господин Волошин рассмотрел, как литератор, картину Репина с точки зрения ценности художественной – как психологический документ, главным образом, с точки зрения ее реальной убедительности; я же хочу высказаться о ней как живописец, причем поделюсь с Вами замечаниями о картине „Иван IV“ профессора Анатолия Ландцерта 4(1885). Здесь мною опускаются, конечно, эти цитаты: из „авторитета“ не только для нас, но и для „самого“ Репина.
Эти анатомические „безграмотности“, лишающие картину, конечно, навсегда ореола „шедевра“ и „классического произведения“, наводят нас на мысль-вопрос: почему Репин, талант, человек больших способностей, не смог написать картины, стоящей вровень с классиками – Леонардо, Рафаэль и др.
Ответ ясен: те были продуктом своего времени, они были новаторами – выразителями эпохи, их искусство не было подражанием, копией – их искусство не было мертвым, выродившимся академизмом.
Репин же, идя всю жизнь на помочах академии („Дочь Иаира“ 5), никогда не отдавался свободно своей склонности. Всю жизнь он смотрел на природу сквозь мутные очки чужих знаний. Его искусство – „копия“, а таковая всегда ниже „оригинала“, т. е. ниже „классических“ образцов (его, репинского, академического искусства).
Переходя к заключению, можно указать на счастливых художников, избегающих „анатомических“ ошибок, на художников, чье искусство стоит не ниже искусств „великих эпох“. Это – новаторы Франции и России: Брак, Пикассо, Фоконье, Машков, Кончаловский, В. Бурлюк („Бубновый Валет“) и многие другие.
Можно пожелать безопасный путь, дабы не попасть в положение Репина, не заниматься старым искусством, а отдаться „свободному“ творчеству искания, не копаться в пыли и знаниях прошлых веков, а смотреть на природу, забыв об искусстве предшественников, любить только ее и одну ее чтить.
Помнить, что „я“, „мое личное переживание“ – это единственно важное и ценное (как стимул, как цель).
Заключил сравнением – неясности нежной грядущей весны и той торжественностью обещаний, коя заключена в „молодом“ искусстве.
Давид Давидович Бурлюк».
В заключение диспута я, обращаясь к публике, сказал: «Прежде всего я хочу поблагодарить И. Е. Репина, хотя теперь и заочно, так как он уже покинул аудиторию, за то, что он сделал мне честь, лично явившись на мою лекцию. К сожалению, отвечая мне, он совсем не коснулся вопросов моей лекции по существу: он не ответил ни на устанавливаемое мною различие реального и натуралистического искусства, ни на поставленный мною вопрос о роли ужасного в искусстве. В последнем же вопросе, нарочно подчеркиваю и упираю на это, заключается весь смысл моей лекции и моих нападений на картину Репина».
Затем я в кратких словах отвечал Топоркову на его критику моего деления реального и натурального и Чулкову на вопрос о значении кубизма, не касаясь больше ни Репина, ни его картины.
Так прошел фактически диспут «Бубнового Валета».
На следующий день начинается процесс преображения действительности в хроникерских отчетах. Свидетели начинают путать, кто за кем гнался: арлекин за негром или негр за арлекином. В начале уклонения от правды только в освещении моих слов.
«„Бубновый Валет“ устроил вчера в Большой аудитории Политехнического музея диспут, посвященный пострадавшей недавно от руки Балашова картине Репина. Аудитория была переполнена. Беседа, в которой принял участие и сам И. Е. Репин, прошла при повышенном настроении аудитории, при сменявших друг друга аплодисментах, шиканьях, взрывах смеха.
Доклад о картине Репина прочел М. Волошин. С большой самоуверенностью г. Волошин произвел полный „разнос“ знаменитой картины, нашел, что в ней дана неестественная, театрально-оперная компоновка фигур, что выкатившиеся глаза Грозного могут встретиться только у женщины, страдающей базедовой болезнью, лицо же убитого сына напоминает грим театрального тенора, что льющаяся кровь походит на клюквенный сок и т. д. Тем не менее, – довольно неожиданно после всех этих реплик, – докладчик признал, что картина производит потрясающее впечатление. Но, по его мнению, это – не искусство; впечатление от картины – только вредное; творчество Репина, по мнению докладчика, не реалистично, а натуралистично. Истинный реализм, это – символизм, импрессионизм и т. д., вплоть до кубистов; то же, что обычно именуется реализмом, следует назвать натурализмом, которому место не в искусстве, а в театре ужасов и анатомическом музее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: