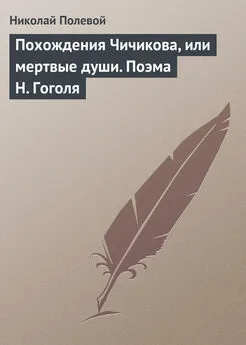Елена Смирнова - Поэма Гоголя Мертвые души
- Название:Поэма Гоголя Мертвые души
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1987
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Смирнова - Поэма Гоголя Мертвые души краткое содержание
Книга вводит в устоявшиеся представления о «Мертвых душах» ряд новых аспектов. Рассматривается попытка Гоголя дать в поэме синтез духовных богатств нации с дописьменных времен до Пушкина и Грибоедова. Показано, как средствами ассоциативной поэтики писатель углубляет содержание произведения, создавая рядом с ее «открытым» текстом разнообразные образы-символы. Устанавливается проекция гоголевского текста на «Божественную комедию» Данте и другие произведения мировой литературы.
Для всех интересующихся творчеством Гоголя.
http://ruslit.traumlibrary.net
Поэма Гоголя Мертвые души - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Именинами сердца» называет Манилов приезд к нему Чичикова. Гость не остается в долгу: «„Сударыня! здесь“, сказал Чичиков, „здесь, вот где“, тут он положил руку на сердце: „да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами… “» (VI, 37).
Несомненно, что письмо незнакомки, полученное Чичиковым, подсказано эпизодом из «Евгения Онегина», но из содержания письма Татьяны здесь актуальна только первая строка. (У Пушкина: «Я к вам пишу – чего же боле?»; у Гоголя: «Нет, я должна к тебе писать!»). Основным же объектом пародирования в письме незнакомки служит поэтическая система Карамзина. Вспомним текст письма: «Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки…» (VI, 160). Последние слова здесь напоминают об особенностях карамзинской пунктуации, которая, как пишут текстологи – специалисты по XVIII в., «выделяет не синтагматическое, а интонационное членение фразы…». «Именно индивидуальная пунктуация являлась для современников часто наиболее бросающимся в глаза знаком „карамзинизма“», – подчеркивают ученые. Авторы цитированных слов приводят и необыкновенно выразительное «предисловие» к анонимной книжке 1803 г., пародирующее особенности пунктуации у Карамзина:
!! –… –!!?..?..?..?..?.. – – · · · /? //! /! //! //! /!! –… –!! [106] См. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Текстологические принципы издания // Н. М Карамзин. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 519–520.
Следовательно, полстроки точек в письме указывают, что образ пославшей его незнакомки ориентирован не только на пушкинскую Татьяну, но и на чувствительных героев Карамзина. Точками, однако, «карамзинизм» письма не исчерпывается. К Карамзину ведет и гоголевская фраза: «Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете…» (там же). Источником ее представляется следующий фрагмент из «Писем русского путешественника»: «„Вы конечно поблагодарите меня за этот нектар (сказал мне услужливый трактирщик, ставя передо мной бутылку): я получил его в наследство от моего отца, которого уже тридцать лет нет на свете“ <���…> Трактирщик уверял меня, что у него есть еще прекрасное Костгеймское вино, полученное им также в наследство от отца его, которого уже тридцать лет нет на свете». [107] Письмо с пометой «Маинц, 2 Августа» // Там же. С. 91.
В этом случае комизм «заимствован» Гоголем у Карамзина, он отражает собственную иронию «путешественника» по адресу сентиментального немца.
Наконец, заключающий письмо стишок представляет собой последний куплет «Двух песен» Карамзина. Гоголь усиливает комическое впечатление от стихов, звучавших в эпоху 40-х годов явным анахронизмом, искажая последнюю строку и нарушая размер (у Карамзина: «Он умер во слезах»).
Даже очевидную травестию пушкинских «Цыган» («… приглашали Чичикова <���…> оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом…») в этом пародийном письме следует связывать не столько с произведением Пушкина, сколько с руссоизмом как таковым – философской основой сентиментализма.
Традиционные приметы сентиментализма «работают» в гоголевском тексте одновременно в двух плоскостях. С одной стороны, они указывают на историческую исчерпанность карамзинской поэтики. С другой – как комическая претензия персонажей на то, что и они «чувствовать умеют», – этот утрированный сентиментализм еще ярче подчеркивает их реальное бездушие .
Но главным партнером Гоголя в диалоге художественных языков, развернувшемся на страницах «Мертвых душ», был, конечно, Пушкин. И спор с ним (ибо сейчас у нас речь пойдет именно о споре) был много труднее, чем с Карамзиным. Творчество Пушкина было в самом зените, когда Гоголь начал прокладывать новые пути в поэтическом освоении действительности. Оно не только не было устаревшим (тем более – смешным), но как раз напротив: его безукоризненная гармония и ясность, казалось, исключали всякую возможность художественного их опровержения. Сам Гоголь, как мы уже видели, неоднократно включал в свою поэму прямое пушкинское слово (т. е. не заключенное в «насмешливые кавычки»). И при всем том течение истории, все более усугублявшее общественную дисгармонию, дисгармонию личности, уже выдвигало новые – адекватные этому дисгармоничному миру – художественные формы. Провозгласив их в своем эстетическом манифесте, Гоголь в лице персонажей «Мертвых душ» противопоставил эти формы поэтической системе Пушкина.
Из приводившихся высказываний Гоголя о Пушкине мы уже можем догадаться, с какой стороны он начал свое нападение на пушкинскую поэтику. Но особенно ясно понять это позволяют слова Гоголя о «Евгении Онегине» из его статьи о русской поэзии. «Он хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу, – пишет Гоголь о Пушкине, – и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтеньи ее, наместо всего, выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта» (VIII, 383).
Оценка, как видим, очень близка к тому, что было сказано о поэмах Пушкина Белинским в его «гоголевской» статье. (Отметим, что и Гоголь называет здесь пушкинский роман поэмой). Гоголь не признает Онегина «современным человеком», и в каком-то смысле он прав: «современным» Онегин был в 20-е годы, когда Пушкин задумал свой роман, для 40-х же годов, к которым относятся слова Гоголя, гораздо более «современным» стал Чичиков. Между прочим, в своей статье, посвященной гоголевской поэме, Шевырев так и назвал его: «герой нашего времени». Из гоголевского понимания «Евгения Онегина» и вытекают те методы предельной объективации и депоэтизации, в духе которых пушкинское произведение было переработано автором «Мертвых душ». Обратимся непосредственно к материалу.
«Евгений Онегин»:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцовал
И кланялся непринужденно…
«Мертвые души»: «… отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе <���…> Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостию и хотя никогда не танцовал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка» (VI, 161–162).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: