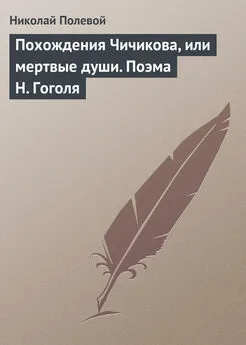Елена Смирнова - Поэма Гоголя Мертвые души
- Название:Поэма Гоголя Мертвые души
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1987
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Смирнова - Поэма Гоголя Мертвые души краткое содержание
Книга вводит в устоявшиеся представления о «Мертвых душах» ряд новых аспектов. Рассматривается попытка Гоголя дать в поэме синтез духовных богатств нации с дописьменных времен до Пушкина и Грибоедова. Показано, как средствами ассоциативной поэтики писатель углубляет содержание произведения, создавая рядом с ее «открытым» текстом разнообразные образы-символы. Устанавливается проекция гоголевского текста на «Божественную комедию» Данте и другие произведения мировой литературы.
Для всех интересующихся творчеством Гоголя.
http://ruslit.traumlibrary.net
Поэма Гоголя Мертвые души - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так, в первом произведении Гоголя, подписанном его именем, – статье «Женщина» (1831), где глашатаем христианизованного, т. е. приведенного к единобожию платонизма выступает сам «облитый сиянием» афинский мудрец, читаем: «Что такое любовь? – Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где все родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца – вечного бога, своих братьев – дотоле невыразимые землею чувства и явления – что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности…» (VIII, 146).
Эти строки помогут нам понять и тот мотив воспоминания, который Гоголь вводит в эпизод встречи Чичикова с губернаторской дочкой на балу: «… Чичиков <���…> стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека; вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он: не платок ли, но платок в кармане; не деньги ли, но деньги тоже в кармане; все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то» (VI, 167).
В свете философии Платона, душа Чичикова в эти минуты силится припомнить истинное благо, намек на которое содержится в гармонической красоте губернаторской дочки, но его духовные ресурсы слишком ничтожны для этого.
Создается впечатление, что в образной системе «Мертвых душ» содержится еще одна философско-поэтическая реминисценция из платоновского «Федра». Человеческая душа уподоблена в этом диалоге упряжке из двух коней с возничим. Кони эти олицетворяют два начала, управляющих поведением человека. «… одно из них – врожденное влечение к наслаждениям; другое – благоприобретенное представление о благе и стремление к нему». [126] Платон . Избранные диалоги. М., 1965. С. 198.
В человеческих поступках преобладает влияние то одного, то другого.
Едва ли не на эту упряжку спроецирована чичиковская тройка с «почтенным» гнедым конем и «подлецом» чубарым. На близость натуры последнего к характеру Чичикова указывал еще Андрей Белый, который пишет о чубаром коне: «… к нему обращается Селифан: „Панталонник немецкий… куда… ползет !.. Бонапарт… Думаешь, что скроешь свое поведение… Вот барина нашего всякий уважает“ <���…> странный ход: от лукавства коня к барину; в это же время сильный удар грома <���…> когда же бричка сшиблась с экипажем губернаторской дочки, зацепившись постромками, чубарому это понравилось <���…> и пока Чичиков плотолюбиво мечтал о поразившей его блондинке <���…> чубарый снюхался с ее конем и „нашептывал ему в ухо чепуху страшную“ <���…> Селифан: „Чубарого коня… хоть бы продать… он, Павел Иванович, совсем подлец… “ <���…> Свойства чубарого сливаются со свойствами барина, который тоже – подлец, „панталонник“ и „Бонапарт“». [127] Белый Андрей. Мастерство Гоголя. С. 95.
К этим наблюдениям можно добавить еще один подобный случай, где Гоголь употребил свой прием сближения разнородных предметов и явлений при помощи метафорического оборота (традиция Стефана Яворского). Обратим внимание на глагол, употребленный писателем в его словах о Чичикове как герое повествования: «Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!». Если видеть в тройке коней символический образ души Чичикова, то и в ней, несмотря на все «лукавство» чубарого, мы должны будем признать наличие и неких противостоящих ему сил и возможностей.
Мы убедились, что художественный космос Гоголя, какими бы отталкивающими явлениями он ни был наполнен, сохраняет в себе идею мировой гармонии, и здесь эстетические принципы писателя соприкасаются с многовековыми традициями идеалистической эстетики. Но эти же принципы несут в себе и ее отрицание.
Требование, чтобы художественное произведение отражало благость мироустройства, имело своей оборотной стороной тезис: искусство есть примирение с жизнью. И Гоголь, как ни парадоксально это может показаться, его исповедовал и в частности утверждал во второй редакции повести «Портрет». Но есть большая разница между тем, как писатель толковал этот тезис применительно к живописи и как – к литературе. В первом случае он ни в чем не противоречит своим современникам, для которых примиряющая функция искусства означала безусловный отказ от сатиры и какого-либо обличения. Описанные в гоголевском «Портрете» картина и икона – это само воплощение красоты, внутренней уравновешенности, умиротворения страстей. В такой трактовке эстетических ценностей не могли не сказаться долгие годы, проведенные Гоголем в Италии, где он наслаждался созерцанием непревзойденной гармонии живописных и архитектурных шедевров эпохи Возрождения.
Но дело в корне меняется, как только писатель переходит от живописи к литературе. И секрет здесь в следующем. Если живопись, по Гоголю, примиряет с жизнью, потому что воссоздает ее красоту, – литература, как вытекает из многих его суждений, должна эту жизнь пересоздать , и только таким путем она придет к примирению с ней. Нужно оговориться, что подобного противопоставления задач живописи и литературы сам Гоголь нигде не делает. Напротив, законы искусства он считает универсальными, и, как мы видели, в «Портрете» он выдвинул ряд положений, по форме связанных с живописью, однако по существу обосновывающих поэтику «Мертвых душ». Но так как художественная практика писателя не только не примиряла с существующей действительностью, но активно ее отрицала, он был вынужден прибегать к разного рода построениям, чтобы каким-то образом согласовать смысл своего творчества с идеей примирения.
В данном случае уместно будет вспомнить слова Льва Толстого, хотя они были сказаны по поводу не эстетических, а религиозных идей Гоголя: «Гоголь вполне оправдал замечание Канта о том, что человек, удержавший в полном возрасте ложное религиозное учение, внушенное ему с детства, если не имеет силы освободиться от него, становится софистом своих убеждений». [128] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1936. Т. 38. С. 280.
Именно такие эстетические софизмы содержит письмо Гоголя Жуковскому от 10 января 1848 г. Гоголь собирался переделать его в статью под названием «Искусство есть примирение с жизнью», которой предполагал открыть второе издание «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Интервал:
Закладка: