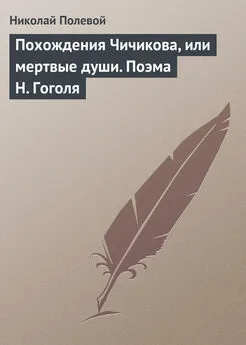Елена Смирнова - Поэма Гоголя Мертвые души
- Название:Поэма Гоголя Мертвые души
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1987
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Смирнова - Поэма Гоголя Мертвые души краткое содержание
Книга вводит в устоявшиеся представления о «Мертвых душах» ряд новых аспектов. Рассматривается попытка Гоголя дать в поэме синтез духовных богатств нации с дописьменных времен до Пушкина и Грибоедова. Показано, как средствами ассоциативной поэтики писатель углубляет содержание произведения, создавая рядом с ее «открытым» текстом разнообразные образы-символы. Устанавливается проекция гоголевского текста на «Божественную комедию» Данте и другие произведения мировой литературы.
Для всех интересующихся творчеством Гоголя.
http://ruslit.traumlibrary.net
Поэма Гоголя Мертвые души - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сравним. У Киреевского: «Что же касается собственно до европейских начал, как они выразились в последних результатах, то, взятые отдельно от прежней жизни Европы и положенные в основание образованности нового народа, что произведут они, если не жалкую карикатуру просвещения <���…> Опыт уже сделан. Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединенным Штатам Америки, построенным на таком разумном основании, после такого великого начала! И что же вышло? Развились одни внешние формы общества и, лишенные внутреннего источника жизни, под наружною механикой задавили человека». [149] Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 184.
У Гоголя: «Государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» (VIII, 253).
И вот «мертвые» плоды западного просвещения писатель стремится оживить при помощи просвещения православно-словенского, как называл его Киреевский. Утверждавший, что в русских летописях «слышна возможность основанья гражданского на чистейших законах христианских» (XIV, 109–110), Гоголь пытается внедрить эти христианские законы в государственную систему, прямо противоположную той, при которой на Руси существовали летописи.
«Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, – читаем во втором из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», – есть не более, как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно, какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости божеской, а не человеческой. Без этого все обратится во зло» (VIII, 290).
В отличие от славянофилов Гоголь не видел каких-либо теневых сторон в деятельности Петра. Преобразователь России предстает в его книге идеальным царем патриархального склада, «который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененьи государственных форм» (VIII, 370).
И в бюрократическом аппарате, возникшем в результате петровских реформ, Гоголь не только не находит никаких изъянов, но утверждает, что его «сам бог строил незримо руками государей» (VIII, 357). «… везде слышна законодательная мудрость как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою», – пишет он «занимающему важное место» (VIII, 356). Более того. Служба в этих бюрократических учреждениях и есть, по Гоголю, осуществление любви к брату , поскольку это служба России, т. е. всей совокупности русских людей. Все это было настолько неожиданно для людей, не осведомленных о настроениях Гоголя 40-х годов, казалось до такой степени невероятным, что реакцию публики на выход «Выбранных мест» без преувеличения можно назвать общественным скандалом.
Львиную долю всех нареканий, обрушившихся на Гоголя после выхода его книги, вызвала статья «О лиризме наших поэтов», в которой современники усмотрели не только ложные мысли, но и искательство перед царем. Гоголь утверждает здесь преимущество монархического строя перед республиканским и на этом основании говорит о превосходстве России над буржуазными странами. Разумеется, выглядит все это на первый взгляд крайне непривлекательно. Но в свете гоголевских «уроков царям», с которыми мы встретились в «Мертвых душах», естественным будет желание не спешить с выводами и рассмотреть статью более обстоятельно.
Попробуем задать себе вопрос: во имя чего (или в противовес чему) отстаивает Гоголь принцип монархии? Как ни странно это звучит, но, оказывается, – во имя человечности.
«Зачем нужно, – пишет Гоголь, ссылаясь на мнение Пушкина, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; – для этого-то и нужна высшая власть, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти» (VIII, 253).
Книга Гоголя вышла в тот момент, когда еще только зарождавшийся в России капитализм породил иллюзию, что она сможет избежать западного пути развития. «Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия <���…> не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия?» – спрашивает в своей статье писатель. Ответ его на этот риторический вопрос не покажется фантастическим, если вспомнить приводившееся ранее утверждение Гоголя, что монарх должен быть образом божиим на земле. И в соответствии с этим своим убеждением он пишет, что Россия «чувствует приближенье иного царствия» (VIII, 351). Знаменательно, однако, что писатель нигде не говорит, будто это царствие в России уже наступило. В традиции, идущей еще от Ломоносова, вместо восхваления реального монарха Гоголь предписывает ему программу, которая далеко не совпадает с его действительным поведением.
Преданный уже известной нам аскетической доктрине и убежденный в ее неопровержимости, Гоголь очерчивает перед самодержцем круг подвижнических обязанностей монаха-исихаста и объявляет их необходимым условием выполнения монаршего долга. «Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, – пишет Гоголь, – и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство». Вывод из этого поучения с осторожностью сделан в условном наклонении: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое – быть образом того на земле, который сам есть любовь» (VIII, 256).
Невозможно отрицать наивность гоголевских мыслей, но от сервилизма, в котором обвиняли писателя и его друг С. Т. Аксаков, и прежний страстный его поклонник Белинский, и многие другие, все это далеко, как небо от земли. Ведь несовпадение истинного портрета Николая I с тем, который Гоголь предложил ему в качестве образца, подводило к выводу о полной моральной несостоятельности царя.
Кстати, что касается образца, то он мог быть почерпнут Гоголем и в древнерусской литературе. Как близок к гоголевскому тексту, например, нижеследующий отрывок из «Казанской истории» (XVI в.): «Православный же царь, князь великий Иван Васильевич всегда сия речения слыша, плач и рыдание, и погибель крестьян своих, стоня сердцем и боля о них, яко оружием уязвляшеся, мысляше, как бы против воздати казанцем и погнаной черемисе. Начаша всегда день и нощь моля, постом и молитвою, и мало сна приимаше, давыдски и постелю свою мочаше слезами…» и т. д. [150] Казанская история. М.; Л., 1954. С. 77.
Интервал:
Закладка: