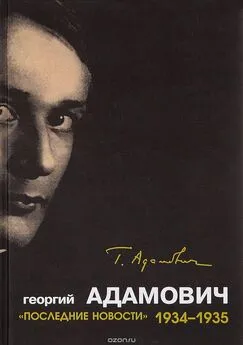Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935
- Название:«Последние новости». 1934-1935
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906823-06-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935 краткое содержание
В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.
«Последние новости». 1934-1935 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рамюз не терпит никакой анархии. Естественно, что порядок, наводимый коммунизмом, ему отчасти по душе. Ему нравится даже отношение коммунизма к Богу. «Там, где буржуазный атеист скажет: “Бог — это абсурд”, советская Россия говорит: “Бог — это зло…”» Таким образом, коммунизм возвращает понятию о Боге его реальность, и если где-нибудь в новые времена существовала церковь, то именно теперь, там, в стране, где все движется одной верой, одной страстью. Рамюз пространно и красноречиво говорит о том, что коммунизм, — и только он один, — что-то решает и выбирает в современном мире, только он один спасет человека от растерянности. Фашизм, который делает как будто бы то же самое, — явление менее значительное, менее глубокое: тут трудно с Рамюзом не согласиться… Коммунизм есть доведенная до логического конца попытка устроиться на земле, без всяких потусторонних надежд. Коммунизм борется с религией ее же оружием. Он несговорчив и исключителен, но по крайней мере знает, чего хочет. Все это Рамюза прельщает. Но в недоумении он останавливается… «On eprouve un malaise a son contact», — замечает автор «Меры человека», как будто разводя руками, и пробует объяснить, в чем источник того, что от коммунизма ему «не по себе».
Не мораль, нет. Рамюз знает, что с моральной точки зрения «насильственный труд и диктатура пролетариата не могут быть отвергнуты». Но его смущает в коммунизме не это, а нечто более общее, постоянное и глубокое… Прежде всего: вражда к природе. Это подмечено очень зорко и верно, и все, что пишет Рамюз о крестьянине, как исчезающем типе человека, и о причинах страстного стремления большевиков раз навсегда с ним покончить, блестяще и убедительно.
(Кстати, вражда к природе, отношение к ней, как к темной, злой силе, которую надо обуздать, есть старая основная горьковская тема, и из-за нее именно Горький нашей литературе, по существу, так чужд.) Коммунизм боится природы, потому что от нее идет в мир разнообразие. Природа всем обликом своим как бы опровергает коммунизм, и оттого-то и нужна была машина, чтобы человек как можно реже вступал с ней в непосредственное общение… Затем — отсутствие любви. Коммунизм все схематизирует, а схему нельзя любить. Коммунизм считается только с количеством, а не с качеством. Любить же можно только качество. Коммунизм оставляет человеку только мозг и руки, и этого обедненного, умаленного, искаженного человека обожествляет и обещает ему владычество над вселенной. «Никогда не было еще в мире гуманизма, который на весь мир смотрел бы, как на нечто, подлежащее вычислению». Коммунизм незаметно для самого себя произвел какую-то подтасовку, которая подрывает самое его дело. Но возможно ли было бы это дело без подтасовки? Рамюз ответа не дает.
Замечательные слова находит он для характеристики советского представления о труде. Если бы труд был радостью, а не проклятием, откуда взялась бы эта забота о массовых играх, празднествах и парадах? «Крестьянин не играет, окончив трудовой день: крестьянин садится у дверей дома и глядит, как сгущаются сумерки…» Он удовлетворен работой, ему больше ничего не надо. А рабочий, выйдя с завода, ищет развлечений. Ему их дают, а иногда и превращают в развлечение самый труд, вводя в него соревнование, подогревая самолюбие, бросая лозунги, вроде «догнать и перегнать Европу». Это увлекает, это помогает «слиянию народа и режима в одной надежде», но это все же лишь непрочное, недолговечное обольщение, которым нельзя жить, как живет своим трудом крестьянин. Что будет дальше? Как справится коммунизм с человеческими мечтами и порывами, которыми не всегда же в силах он будет управлять — и как заставит он человека, безмолвно и бездеятельно стоящего у всесильной машины, думать только о том, что он допускает и хочет? Не отыграется ли качество за счет количества? Что такое величие, в конечном счете? Крохотное полотно Сезанна или башня в триста метров вышиной?
Рамюз как будто изнемогает под своими же вопросам и сомнениями. Но после долгих раздумий он все-таки коммунизм отвергает, хотя и признает за ним большую ответственную роль в современной культуре. Если из «Taille de l’homme» можно сделать вывод, то приблизительно такой, что «последняя лесть будет горше первой», т. е. что в конечном счете человек, сделав на коммунизм ставку, ничего не выигрывает, а проиграть может многое.
«Человеку нужно что-то, превосходящее его…» Формула очень уклончивая. Рамюз, вероятно, <���потому> и остановился на ней в заключение книги, что колеблется, какой путь избрать, и даже не уверен, что в выборе путей история оставляет человеку свободу.
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ», КНИГА 55-я
Часть литературная
В только что вышедшей пятьдесят пятой книжке «Современных записок» нет ни одного законченного беллетристического произведения. Только отрывки: начало «Няни из Москвы» Шмелева, продолжение «Отчаяния» Сирина, продолжение алдановской «Пещеры»… Естественно было бы ограничиться обещанием дать отзыв об этих вещах впоследствии. Но отрывки так характерны для каждого из авторов, что само собой возникает желание «поделиться впечатлениями», хотя бы еще шаткими и подлежащими позднейшей проверке.
У Шмелева — как и всегда — удивляет несоответствие ритма и общего стиля дословному содержанию, неравноценность одного и другого. Нет писателя, о котором с большим правом можно было бы повторить определение «большой талант». Если прислушаться к напеву, к строю и течению шмелевской прозы, почти не вникая в ее непосредственный смысл, она кажется значительней, чем есть. Кажется, что она о чем-то ином, более глубоком и грозном рассказывает, иной более глубокой страстью охвачена. Фрейдист сказал бы, что лишь сквозящее в ней «подсознание» определяет творческий облик автора, — лишь оно, а никак не то, что у него действительно на языке. Но фрейдизм в литературной критике заводит в такие дебри, из которых не выбраться, и осторожнее к этому методу не прибегать, пока он не будет отчетливо разработан. Всякий вправе строить любые догадки, но судить надо не по догадкам, а по фактам. Шмелевская проза есть факт, существующий лишь в данном виде, и значит она только то, что значит… Но нельзя отделаться от мысли, что в процессе развития автора произошло какое-то тайное «искривление», задержавшее его рост, помешавшее ему стать тем, чем мог бы он стать. Интонация Достоевского, а текст чуть ли не чириковский или даже минцловский. Конечно, я огрубляю и схематизирую. Но, действительно, в писаниях Шмелева человеку душно, скучно, тесно, и это впечатление незаслуженной, неоправданной духоты возникает именно от того, что сам же автор будит в читателе влечение к простору.
«Няня из Москвы» по-своему мастерская вещь. Не сомневаюсь, что она будет иметь успех, и не спорю, что для успеха есть основания. Витиеватый «говорок» московской старухи, побывавшей и в Америке, и в Париже, передан безошибочно, рассказ ее полон блеска, остроумия. Старуха вспоминает не о себе, а о семье, с которой ее связала судьба, и мало-помалу сквозь ее щедрую, вольную речь проступает какая-то далекая, сложная людская драма. Отдельные подробности на редкость удачны, как, например, эта постоянно отражающаяся в нянином монологе тревога слушающей ее барыни, не постарела ли, не подурнела ли она? Внимание не ослабевает ни на минуту… Все это так. Но над повествованием есть как бы потолок, выше которого она подняться не может. Шмелевские люди всегда страдают, и, в сущности, страдание и есть основная тема Шмелева, — как у Достоевского. Но если спросить себя, из-за чего это страдание, что скрыто за ним, какое от него спасение, каков его смысл, каков его уровень, вообще, — то тут и выступает разочарование, положительный «идеал» беден и скуден. В «Карамазовых» он, может быть, не ясен, но там по крайней мере звучит и сияет всеразрешающая «финальная гармония», и в игру входит все, чем живет человек, его душа, его сердце, его сознание. А тут от «гармонии» мало что осталось: только покой, порядок, внешнее сытое благополучие. Ну, Россия, — но какая? Кажется, именно та, о которой говорил Блок в знаменитом стихотворении: «Грешить постыдно, непробудно…» Ну, природа. Но и природа подслащенная, чуть-чуть сусальная: красное солнышко, дремучий лес, студеные реки. Шмелеву веришь, пока его краски черны. Если бы люди его стали счастливы, и он показал бы, «ради чего спорил с небом», то, пожалуй, мы перестали бы придавать этому спору значение… Скажу еще, — в пояснение своей мысли, — что в шмелевских писаниях не хватает поэзии (в самом широком смысле этого слова). Есть быт, есть воля, есть зоркость. Но нет творческого взлета над темой. Другому писателю было бы достаточно и того, что у Шмелева есть: не всякому даны такие богатства, и нет ничего удивительного, что иногда они вызывают удивление и зависть. Но Шмелев-то больше и глубже их, и только по несчастью какому-то он не может из их «заколдованного круга» выйти. Впрочем, многие поклонники его именно этому его бессилию и радуются, утверждая, что только он «несет знамя», «стоит на славном посту», «воспевает незабвенное прошлое», «будит бодрость в сердцах»… Хорошие это вещи — знамя, посты, слава, бодрость. К сожалению, только, их отношение к искусству и литературе гораздо сложнее, чем обычно это себе представляют: оно требует, прежде всего, полной внутренней свободы. Нужна алхимия, переплавка, чудо: из грубой материи должно внезапно получиться золото.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: