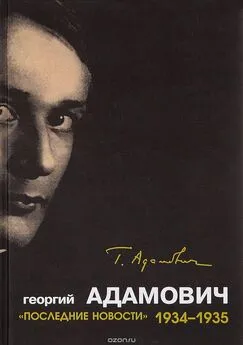Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935
- Название:«Последние новости». 1934-1935
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-906823-06-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935 краткое содержание
В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.
«Последние новости». 1934-1935 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В центре фабулы — постройка железной дороги, «сверхмагистрали», по масштабу равной нескольким «Турксибам», и требующей величайших усилий. На службу строительству привлечен цвет науки. За работами зорко и напряженно следит власть.
«В этой стране люди строили и другие дороги. По рельсам, как электрический ток по проводам, на тысячи километров передавалась культура, в аулах и хатах загоралось электричество, в колхозах появлялись типографии, в степях сигнальными башнями социализма вставали гигантские элеваторы. В этой стране привезли в пустыню по рельсам город — Сталинабад. В этой стране построили легендарный Турксиб. Эти люди рассыпались теперь по всем союзным республикам строить новые дороги, прокладывать повсюду стальные пути.
Строить… Но как? (выделено автором).
Человек рыл землю лопатой, как рыли за сотни лет до него. Накопав, он опирался на лопату, — в вековой позе отдыхающего землекопа, — и ждал, пока подвезут к нему орудие для перевозки накопанной земли…»
Эта цитата — характерна для Карцева. В потоке всяких новшеств и реформ он не случайно отмечает хотя бы одну неизменную черту — «вековую позу отдыхающего землекопа». Он ищет «вековое» везде.
Но об этих его поисках, об их важности и показательности, и обо всем, про что рассказано в «Магистрали», в следующий четверг.
II.
Максим Робертович фон-Гесс — «потомственный почетный инженер». Дед его был пионером железнодорожного дела в России и нажил на постройках миллионы. Отец, человек с европейским именем, вел долгую, в конце концов увенчавшуюся успехом борьбу за государственную инициативу в том же деле, уничтожил тиранию «железнодорожных королей», считался одним из виднейших кандидатов в министры путей сообщения и вообще шел непрерывно в гору, пока не настала революция… С революцией деятельность его оборвалась. Старик ушел на покой и был крайне удивлен, когда узнал, что большевики назначили ему «персональную пенсию».
— У меня нет заслуг перед вами! — хотел он ответить, но Максим Робертович уговорил отца «смириться» и не обострять отношений с новой властью. «Ты отслужишь им за меня, Максим», — сказал с усмешкой тот, и, решив, что творческая созидательная его жизнь кончена, погрузился в поэзию, в философию и садоводство.
Максим Робертович большевикам, действительно, служит. Тип этот обрисован в «Магистрали» Алексея Карцева с редкой зоркостью и правдивостью, и остановиться на нем стоит. Казалось бы, по своему происхождению, по своей «классовой принадлежности», выросший в богатой семье, избалованный, себялюбивый, самоуверенный Максим Гесс должен был оказаться в лагере тех, для кого ленино-сталинский режим невыносим, и кто явно или тайно с ним борется. Гесс, как и его отец, инженер европейского размаха, человек большой эрудиции и огромной энергии. Если бы новая власть его оттолкнула, он, конечно, дал бы волю своей глухой природной вражде к ней. Но власть не оттолкнула Максима Робертовича, она, наоборот, польстила ему, выделила его, пожаловала его «высочайшей улыбкой», — и он ответил ей преданностью, как собачка, только что рычавшая и ворчавшая, ласково виляет хвостиком, если видит, что ее хотят погладить, а не ударить. Круг идей и привычек, в котором Гесс привык вращаться, разбит. Друзья его рассеялись. Но сам-то он уцелел, и даже больше: он оценен по достоинству, он признан и окружен известным комфортом и почетом. Ошибкой было бы сказать, что Максим Робертович «прислуживает», раболепствует. Нет, по своему он искренен, — и только в те моменты, когда затронуто бывает его самолюбие, видно, что служит он, прежде всего, самому себе… Тип этого «крупного спеца» оттого заслуживает внимания, что очень часто мы здесь, в эмиграции, не совсем правильно судим о настроениях таких людей. Мы склонны думать, что они продались. Они сами отвергают (или отвергли бы) этот упрек с возмущением, которое кажется им совершенно чистосердечным. Недоразумение в том, что мы считаем их «продажность» грубо расчетливой, между тем как тут что-то другое, менее умышленное, трудней уловимое и определимое, не вполне ясное даже для них самих. Происходит какое-то парадоксальное и неожиданное оправдание формулы о бытии и сознании. Человеку сравнительно хорошо, и он с самозабвением начинает помогать тем, от кого зависит это «хорошо», незаметно для самого себя перестраиваясь, втягиваясь, ища общих исторических или философских обоснований своему сочувствию, не видя, что он сам себя обманывает. Тот же человек, в эмиграции или на Соловках, пришел бы к диаметрально-противоположным выводам и суждениям, с такой же уверенностью полагая, что в этих выводах и суждениях его душа и разум совершенно независимы… Конечно, такие наблюдения неутешительны и настраивают на довольно горькие мысли о «человеке вообще», о среднем человеке, по крайней мере. Но это, как говорится, совсем другая история. Неплохо, во всяком случае, что, поняв это, мы становимся более терпимыми и не с такой уже охотой, не с таким легкомыслием кичимся своей моральной чистотой и нравственным превосходством.
Максима Робертовича не пригласили на постройку Турксиба. Был он в это время в заграничной командировке, и обошли его, может быть, случайно. Но как бы то ни было, — обошли. Гесс затаил обиду. Всюду, где ему приходилось высказываться о Турксибе, он говорил, поднимая плечи и поглаживая свою американскую бороду:
— Несомненно, товарищи, это наш крупнейший успех… Но не следует самообольщаться, товарищи. Мы все еще во многом кустари, и техническое чванство нам так же не пристало, как и чванство коммунистическое, о котором говорил Ленин.
Несколько позже он изменил аргументацию. Вместо чванства, он упоминал о головокружении от успехов и был широко известен, как крупный специалист с большим общественным горизонтом, — один из тех беспартийных, которых можно и нужно привлекать к самым ответственным делам.
Неожиданно для самого Гесса, его привлекли к новому делу огромного масштаба. Было решено строить «сверхмагистраль», — железнодорожный путь, перерезывающий всю Россию с севера на юг, — и Максиму Робертовичу предложен был пост главного инженера строительства. Гесс сразу согласился. Началась спешка, лихорадочная работа над проектами, чертежами, сметами, — обычная обстановка советских «строек». Как же: надо ведь соблюдать темпы.
— Спешим, — говорит сам себе Гесс, — спешим, несмотря ни на что, черт бы нас побрал, а спроси, куда, каждый тебе сделает вид, что, мол, настолько понятно, что и спрашивать смешно.
Но лихорадка захватывает и его. На заседании в Кремле он предлагает окончить постройку в кратчайший срок. Предложение его принято. Заседание закрыто. Тогда-то, в шуме голосов и отодвигаемых стульев, Максим Робертович услышал нелепо громкий, свой собственный и в то же время неузнаваемо-чужой голос:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: