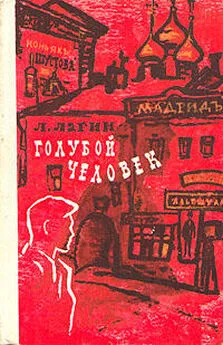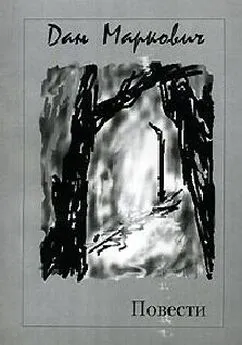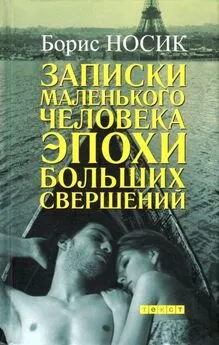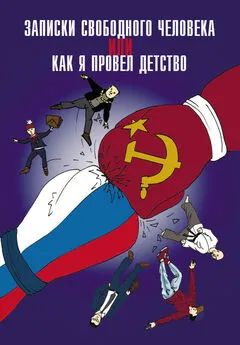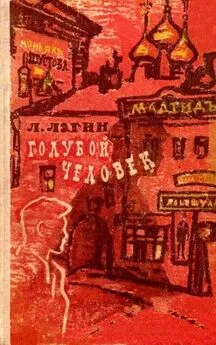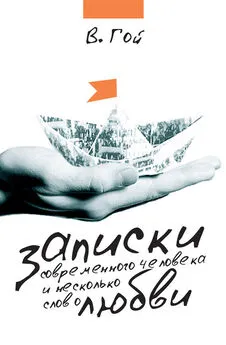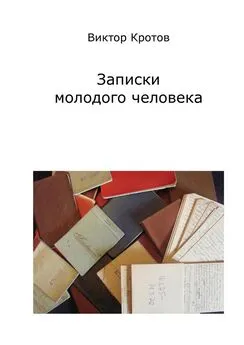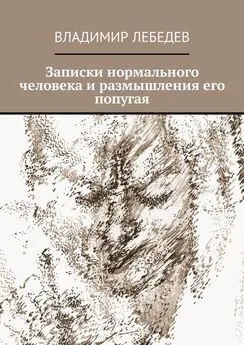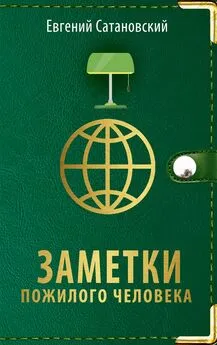Лазарь Лазарев - Записки пожилого человека
- Название:Записки пожилого человека
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-94117-058-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лазарь Лазарев - Записки пожилого человека краткое содержание
Лазарь Лазарев — литературный критик «новомирского» ряда, один из старейшин современного литературоведения и журналистики, главный редактор пользующегося неизменным авторитетом в литературном и научном мире журнала «Вопросы литературы», в котором он работает четыре с лишним десятилетия. Книга «Записки пожилого человека» вобрала в себя опыт автора, долгое время находившегося в гуще примечательных событий общественной и литературной жизни. Его наблюдения проницательны, свидетельства точны.
Имена героев очерков широко известны: В. Некрасов, К. Симонов, А. Аграновский, Б. Слуцкий, Б. Окуджава, И. Эренбург, В. Гроссман, А. Твардовский, М. Галлай, А. Адамович, В. Быков, Д. Ортенберг, А. Тарковский.
Записки пожилого человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Появились в «Звезде» записки Виктора Конецкого, в которых писатель рассказывает, как он в качестве дублера капитана участвовал в проводке каравана судов Северным морским путем. На одном из кораблей находились в качестве пассажиров Константин Михайлович с женой и дочерью. Конецкий очень смешно, не без яду — другой человек на месте Симонова почти наверняка обиделся бы (из разговора с Конецким я понял, что он этого опасался) — описывает, какую «волну» среди команд кораблей каравана вызвало это путешествие популярного писателя. Он высмеивает главным образом отношение к знаменитости, к «звезде», но рикошетом самой знаменитости тоже порядком достается. Константин Михайлович, позвонив мне из Гурзуфа, говорил: «Давно так не смеялся. Вот придет следующий номер, дочитаю и напишу Конецкому, поблагодарю его». Но уже не успел этого сделать…
Чувство юмора, обращенное и на самого себя, тоже было выражением присущей ему самокритики, трезвого и строгого самоконтроля. «Слушай, а Симонов на тебя не обиделся? Здорово ты… Все-таки очень много критических замечаний. Как это он стерпел?» — примерно так мне говорили коллеги, когда в 1974 году вышла моя книга «Военная проза Константина Симонова». «Нисколько не обиделся. Так что все ваши комплименты — ему», — обычно отвечал я. Это вызывало неподдельное удивление, а бывало, и недоверие к моим словам: «Что ты говоришь? Правда? Не может быть…» И эта реакция не случайна. Ведь часто происходит иначе. И у меня не раз бывало, что откровенно высказанное автору мнение о том, что не все хорошо в его произведении, которое он сам просил прочесть «для дела», вызывало обиды, приводило к осложнению до этого добрых отношений, случалось, что отношения на этом просто прерывались…
Когда Константин Михайлович прочитал мою книгу, мы проговорили с ним целый вечер главным образом об одной ее главе, посвященной творчеству Симонова первых послевоенных лет. В этой главе речь шла о творческом кризисе, который он тогда переживал, об утрате ориентиров, в том числе и нравственных, о той дани, которую он заплатил иллюстративности и бесконфликтности. Что греха таить, писателю, наверное, мало радости читать такое о себе. Но Константин Михайлович не думал обижаться, иное его заботило. Здесь не место воспроизводить этот длинный разговор (я никогда не записывал бесед с Константином Михайловичем, это была часть моей жизни, а не заранее заготовляемый материал для будущих мемуаров, но многое, в том числе этот важный разговор, помню хорошо). Одно могу сказать: Константин Михайлович тогда не только старался мне объяснить, почему так произошло, рассказать о том, чего я не знал и не мог знать, — я видел, что ему самому хотелось до конца разобраться, «где не так мы сказали, ступили не так и пошли», — как писал он в довоенных стихах по другому поводу. Он говорил и о себе и о том, что написал тогда, беспощадно, считая, что его как человека и как писателя чуть не погубила тщеславно-неумеренная общественная деятельность на ниве литературы — так он выразился. Ему горько было все это сознавать, но он ничего не хотел смягчать, не желал самообольщаться и лукавить сам с собой. И не обиделся на меня, когда я сказал, что его судьба еще одно подтверждение того, что писателю, если он не хочет пустить на ветер свой дар, надо держаться подальше от царей.
Симонов и в других очень ценил умение бесстрашно смотреть правде в глаза, как бы ни была она тебе лично неприятна. Когда однажды кто-то при нем в высокомерном тоне отозвался о маршале Тимошенко, Константин Михайлович сразу же возразил: «Не буду касаться вопросов чисто военных, в этом надо серьезно и основательно разбираться, а расскажу вот что. Перед выпуском на экран фильма „Если дорог тебе твой дом…“, чтобы предотвратить этот выпуск, ПУР организовал несколько просмотров для крупных военных. На один из них был приглашен Тимошенко; противники фильма рассчитывали, что он-то наверняка присоединится к ним. Когда показ кончился, предложили перенести обсуждение на завтра. И вдруг Тимошенко сказал: „А я могу и сейчас сказать. Мне этот фильм было смотреть труднее, чем кому бы то ни было, но ничего не поделаешь — здесь все правда“. Я знаю, как нелегко судить себя, и тех, у кого хватает на это гражданского мужества, не могу не уважать».
Но это не значит, что он был снисходителен к нашим генералам. Подход у него был дифференцированный. В одной из статей я писал, что в сорок первом война была больше подвигом, чем полководческим искусством, а в сорок четвертом и искусством. Прочитав это, Симонов мне справедливо попенял: «Как кто? Были и такие, кто и в сорок пятом клал и клал людей, и немало их было. Хорошо это знаю».
Симонов не выносил запаха фимиама, «приписок», с брезгливостью, с крайней нетерпимостью относился к попыткам возвышать его. Он знал себе цену, но знал и свои возможности. И не только не боялся критики — даже резкой, — он жаждал правды, нелицеприятного разговора, искал способы проверки написанного, старался извлечь из критических замечаний все разумное, дельное, чтобы затем реализовать в рукописи. Многие свои вещи он давал читать товарищам — Евгению Воробьеву, Давиду Иосифовичу Ортенбергу, мне — в рукописи, так сказать в приватном порядке. Не помню ни одного случая, чтобы он раздражался из-за суровых оценок или въедливых замечаний. Иногда спорил, иногда говорил: «Ты прав, но этого я не умею, не получится у меня», но никогда не отмахивался, не относился пренебрежительно, не затаивал обиду. Одну из своих книг он подарил мне с такой надписью: «Дорогому Лазарю — другу и ругателю». И даже сочинил шутливое двустишие: «О друзья-дружочки — один ставит галочки, а другой точки» (галочки ставил я, точки — Воробьев).
Мы редко писали друг другу — в наш век экономнее и проще пользоваться телефоном. Но вот одно из его писем — он был в больнице, а я под Москвой в доме творчества, связываться по телефону было трудно. Я цитирую ту часть письма, где речь идет о моих советах (замечу на всякий случай, чтобы при чтении моих заметок не возникало неясностей: сначала мы были с ним на «вы», потом он мне говорил то «вы», то «ты». А в последнее время обращался ко мне на «ты», только в официальной обстановке употребляя «вы»): «Во первых строках моего письма спасибо Вам за Ваше письмо, за стремительное прочтение моей повести и за добрые советы. В известной мере я их выполнил, к примеру, связал „Пантелеева“ и „Жена приехала“ тем, что Лопатин внутренне сравнивает историю со шпионкой на Арабатской стрелке и историю женщины, оставшейся у немцев в Одоеве. Сделал и другие маленькие связочки. Отчасти же выполнить не удалось, ибо на поверку оказалось, что сколько-нибудь заметные, новые, большие вкрапления размышлений самого Лопатина в „Пантелееве“ что-то разрушают там, лишают цельности. В „Левашове“ это выходит, а в „Пантелееве“ — не выходит. Видимо, это слишком вещь в себе для того, чтобы производить там сколько-нибудь крупные нарушения ткани. Сделал это только там, где это почти незаметно». Думаю, что это письмо прекрасно иллюстрирует его неамбициозное, деловое, рабочее отношение к критическим замечаниям…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: