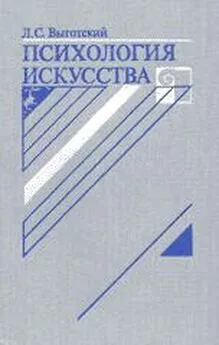Лев Выготский - Психология искусства
- Название:Психология искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:0302060000-168 КБ-7-2-86 025(01)-86
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Выготский - Психология искусства краткое содержание
Книга выдающегося советского ученого Л. С. Выготского «Психология искусства» вышла первым изданием в 1965 г., вторым – в 1968 г. и завоевала всеобщее признание. В ней автор резюмирует свои работы 1915-1922 годов и вместе с тем готовит те новые психологические идеи, которые составили главный вклад Выготского в науку. «Психология искусства» является одной из фундаментальных работ, характеризующих развитие советской теории и искусства.
Книга рассчитана на специалистов – эстетиков, психологов, искусствоведов, а также на широкий круг читателей.
Психология искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Комментарий 102
Айхенвальд: «Его религиозность момент в высшей степени важный и многое, особенно в данном случае, объясняющий; но как раз она… и отнимает у датского принца законченность и последнюю стильность его психологического облика». Религиозен ли Гамлет? Фаталист или детерминист? Христианин или язычник, верующий в кровавую месть? Скептик, или материалист, или идеалист? Сопоставляют его «изречения», находят противоречия. Он ничего не знает, как все мы: он хочет молиться (преодолеть трагедию). В этом все. А то, что он узнает в минуту смерти, не может быть названо земным словом. Это не слово: это, скорее, свет трагедии, топ ее, связь слов, – в связи слов религиозность трагедии. Эта религиозность имманентна трагедии в ее словах, во религиозная причина трагедий ей трансцендентна.
Комментарий 103
Критики как будто чувствуют себя связанными клятвой молчания – не рассказывать «истинной причины» состояния и поведения Гамлета. А ведь до чего она ясна, если придерживаться трагедии: общение с иным миром. Отсюда все. G. H. Lews (по К. Р.): «С минуты исчезновения призрака Гамлет – другой человек». Но и он, отметив это перерождение, сбивается дальше на другое.
Комментарий 104
«…два мира внутри человека…». – См. о Гамлете как о «человеке, чей ум на границе двух миров», в статье: Lewin С. S. Hamlet. The prince of the poem? – In.: Hamlet enter critic, ed. by C. Sacks and E. Whan. New York, I960, p. 179 (см. в той же статье, с. 184, согласующееся с концепцией Выготского представление о Гамлете как о «человеке, которому призрак дал задание»).
Комментарий 105
«Disposition». – Здесь и далее в качестве ключевого слова, позволяющего многое объяснить в поведении Гамлета, Л. С. Выготский использует английское «disposition» – «расположение духа». Сходным образом интерпретируется это слово и в исследовании: Wilson /. D. What happens in Hamlet. Cambridge, 1956, p. 88-89 и далее.
Комментарий 106
Вопрос о притворном или истинном безумии Гамлета решается разно. Энр. Ферри («Преступные типы»): «Гамлет является преступником-сумасшедшим» etc. (у него попытка связать катастрофу, действия Гамлета, «автоматизм»). Бриет де Буамон (по К. Р.) говорит о Гамлете: "Гамлет не умалишенный, но в нем уже находятся все элементы умопомешательства… он уже стал на первую ступень, ведущую в бездну умопомешательства. Все речи и поступки Гамлета, клонящиеся к выполнению возложенного им на себя обета, свидетельствуют о том, что он обладает полным рассудком. Он находится в состоянии, занимающем середину между здравым рассудком и умопомешательством (курсив. – Л. В.). Можно, думается нам, формулировать так (если не научно, то художественно понятно – литература приучила нас к этому!) Гамлет не сумасшедший ни в коем случае, но можно его состояние назвать безумием, и, перефразируя слова В. Кузэна: безумие – «божественная сторона разума», сказать, что так безумны все трагические герои, ибо его безумие – есть «трагическая сторона разума».
Комментарий 107
Многие критики "Гамлета (Гете и другие) видели в этом двустишии ключ к пониманию всей трагедии, но никто, кажется, или почти никто не разъяснил самого образа: the time etc., понимая его просто, как образ большого несчастья, или трудной задачи, или ужаса мира. А между тем в этих словах действительно все.
Комментарий 108
Этот образ навеян удивительной игрой артиста Качалова (Московский Художественный театр). Вообще интереснейшая постановка «Гамлета» этим театром во многом, но далеко не во всем, – особенно купюры и исполнение остальных ролей приходится исключить из этого, – сближается с развиваемыми здесь взглядами, хотя критика (рецензия) не отметила этого характера постановки. (Только Вл. Гиппиус – приложение к газ. «Дань», № 111 – «Отклики», № 16, 1914, в статье «Шекспир и Россия» – об этой прекрасной статье ниже – говорит: «В этом значении был понят „Гамлет“ театром Станиславского; какие бы возражения ни делали против постановки, какие бы идейные натяжки в ней на были допущены: в основании замысел был верный. Гамлет – мистик…»). В частности, игра Качалова (которая вся была выдержана на одной ноте безысходной скорби) удивительна, но это не полное воплощение Гамлета и далеко не выдержанное. Распространяться об этом здесь не место. И. А. Гончаров (приведено в предисловии) говорит о невозможности вообще полного сценического воплощения Гамлета – взгляд глубокий: можно сыграть Лира, Отелло и т. д. «Сильному артисту есть возможность настроить себя на тот тон чувств и положений, которые в Лире и Отелло идут ровным, цельным и нерушимым шагом… Не то в Гамлете, – Гамлета сыграть нельзя, или надо им быть вполне таким, каким он создан Шекспиром. Но можно более или менее слабее или сильнее напоминать кое-что из него». Гончаров делает удивительные замечания о Гамлете: «Гамлет – не типичная роль… Свойство Гамлета – это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления… Он, влекомый роковой силой, идет, потому что должен идти, хотя лучше, как он сам говорит, хотел бы умереть… Вся драма его в том, что он – человек, не машина…». Здесь уже ясно, что Гамлет – человек, необыкновенная общность этого образа (не типичного именно) отмечена. (Это отмечает и Белинский: «Гамлет! Понимаете ли вы значение этого слова? Оно высоко и глубоко: Гамлет – это жизнь человеческая, это – я, это – вы, это – каждый из нас», – и т. д.). К этим глубочайшим заметкам Гончарова прибавлю его слова из романа «Обрыв»: "Гамлет и Офелия! – вдруг пришло ему в голову [37]… Над сравнением себя с Гамлетом он не смеялся: «Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда». Так называемая «воля» подшучивает над всеми! Нет воли у человека, – говорил он, – а есть паралич воли: это к его услугам! А то, что называют волей, эту мнимую силу, так она вовсе не в распоряженип господина, «царя природы», а подлежит каким-то посторонним законам и действует по ним, не спрашивая его согласия. Она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не то, что надо…" (ч. III, гл. XIII, с. 117). Свяжите это с «его драма в том, что он человек – не машина» – и станет ясно глубокое освещение трагического безволия, «автоматизма» датского принца. Возвращаясь к вопросу об игре Гамлета, скажем еще: не тот же ли взгляд Гончарова имел в виду Достоевский в мимоходом оброненной фразе: «Видел я Росси в „Гамлете“ и вывел заключение, что вместо Гамлета я видел г-на Росси» (Дневник писателя, гл. III, 1877, март). (Иванов Р. М. Спектакль Эрнесто Росси: «Из шекспировского Гамлета он (Росси) сделал итальянца… Трагедию мысли превратил в драму чувства…») В пламенных строках Белинского о Мочалове можно уловить, что Мочалов подлинно удивительной силы достигал в Гамлете. Особенно удивительна его способность, говорящая о необыкновенном вдохновении в игре, совершенно разно в течение нескольких спектаклей играть (ср. после сцены представления). Но нельзя не отметить, что его исполнение даже в передаче Белинского значительно превосходит и, главное, уклоняется от толкования его. В его исполнении, несомненно, было (из слов Белинского) глубокое и ужасное, чего нет в толковании Белинского. Недаром Белинский упрекает его за исполнение этого места: «The time…» (по Полевому: «Преступление…» в котором он, вслед за Гете, видит все, и, которое, по его мнению, у Мочалова пропадало всегда: «с блудящим взором», «зловещее привидение», у него «все дышало такою скрытою, невидимой, но чувствуемой, как давление кошемара, силою, что кровь леденела в жилах у зрителей…» – уже одни эти слова показывают все: впечатление о Гамлете Белинского нельзя сравнить с кошемаром; здесь ни при чем «кровь леденела…». Ап. Григорьев (ibid.): «Ведь Гамлет, которого он {Мочалов} нам давал, радикально расходился хотя бы, например, с гетевским представлением о Гамлете. Уныло зловещее, что есть в Гамлете, – явно пересиливало все другие стороны характера, в иных порывах вредило даже идее о бессилии воли, какую мы привыкли соединять с образом Гамлета».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: