Георгий Кублицкий - Про Волгу, берега и годы
- Название:Про Волгу, берега и годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Кублицкий - Про Волгу, берега и годы краткое содержание
Про Волгу, берега и годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начал он с малого. Ездил по селам, которым угрожало наступление песков. Говорил, что овца фабрикует пустыню. Рассказывал, как надо правильно пасти скот, чтобы он не выбивал траву вместе с корнями, убеждал, что надо сажать на песках растения, которые закрепили бы, остановили их. Его слушали с недоверием — и ничего не делали.
А пески надвигались. Они подступили к окраинам села Сасыколи. Собрался сход. Долго судили, рядили: дело дрянь, придется переносить село на новое место. Кто-то вспомнила про чудака-лесовода. Попытка — не пытка…
Орлов заложил в Сасыколи первый питомник. Крестьяне дивились: бархан, на котором посадили кустарники и посеяли степные травы, в самом деле перестал двигаться! В другом селе Орлов высадил сливы и черешню. Растеньица устояли против зноя, пустили корни. Пошел слух: а ведь лесовод, пожалуй, дельный мужик! И еще в нескольких селах появились питомники.
Потом нагрянула беда. Несколько дней подряд дул горячий ветер — все блекло, сохло на глазах. И еще один страшный враг появился в астраханской степи — небывало расплодившаяся гусеница лугового мотылька. Гусеницы ползли, оставляя за собой землю без единой травинки. Их было так много, что в степи останавливались поезда: колеса буксовали в месиве раздавленных тварей.
Орлов переезжал верхом из села в село. Во что бы то ни стало спасти молодые посадки! Если они погибнут, у людей опустятся руки.
Вокруг посадок запылали костры. Спешно рылись канавы. А гусеницы все ползли и ползли. В питомнике, который Орлову особенно хотелось сохранить, засорился фильтр глубокого шахтного колодца, откуда доставали воду и для полива, и для канав, преграждающих путь гусеницам. Вода иссякла.
Орлов бросил в колодец зажженную бумажку. Крутясь в воздухе, она сгорела, так и не долетев до воды, блеснувшей где-то в глубине.
Сначала, пока его спускали на веревке первые метры, он испытывал приятную прохладу после зноя. Внизу ледяная вода сводила руки. Фильтр не подавался. Орлов провел в колодце три часа, его била лихорадка. Он не помнил, как потерял сознание. Безжизненного, его вытащили наверх.
На следующий день отнялись ноги и странно онемела половина лица. Больного положили на полотнище палатки и повезли к врачу.
Простудился ли Орлов в колодце, или на дне его оказались вредные газы — сказать трудно. Больше года лесовод пролежал без движения. Потом стал понемногу ходить на костылях. Врачи сказали: это — на всю жизнь…
Так, на костылях, полупарализованный, он и сажал в приволжских песках виноградные лозы, показывал, как сеять по барханам песчаный овес, неприхотливое растение с цепкой, разветвленной корневой системой, выбирал места для посадок защитной полосы садов и леса, искал растения — каучуконосы, ставил опыты, задерживая влагу в почвах полупустыни.
Орлов читал: американские ученые считают, что лесоразведение возможно там, где в год выпадает не менее 400 миллиметров осадков. Астраханской полупустыне природой отпущено вдвое меньше. Но Орлов своими глазами видел дубовую рощу в балке у города Степного, посаженную Докучаевым. Правда, там свой микроклимат и почвы лучше, чем в других местах.
Когда Орлов предложил поставить опыты неподалеку от Баскунчака, у горы Бог до, члены поехавшей с ним комиссии возражали очень решительно: здесь же дождь до земли не доходит, в воздухе испаряется.
Орлов настоял. Посадки не поливали. Смысл был в том, чтобы вырастить деревья на скудном пайке влаги, отпущенном полупустыней. Сохраняли в почве каждую каплю. Деревца сажали в ямки так, чтобы листву меньше палило солнце. Зимой задерживали снег. Почву рыхлили, чтобы уменьшить испарение. И деревца выстояли!
В начале тридцатых годов свершилось чудо, в которое до революции почти никто не верил: во многих местах астраханской полупустыни было приостановлено наступление песков. Михаил Иванович Калинин вручил Орлову грамоту:
"Президиум Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета СССР, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в упорной самоотверженной работе по лесомелиорации и укреплению песков, благодаря которой были сохранены для сельского хозяйства и скотоводства огромные пространства… награждает Вас званием Героя Труда".
Перед войной стараниями таких людей, как Орлов, в низовьях Волги было закреплено уже около миллиона гектаров летучих песков.
В дни Сталинградской битвы Орлов пришел к генералу, штаб которого находился за Волгой, в полупустыне, и попросил отменить распоряжение о вырубке сосняка на песчаных холмах. Этот лес — защитный, он держит пески и пригодится после победы. А если обязательно нужны деревья для телеграфных столбов, то он, Орлов, может показать, где их найти. Только пусть дадут грузовик, ходок-то он неважный…
Генерала удивил человек, думающий о каких-то соснах в такие дни. Но приказ он все же отменил: в гражданскую войну ему пришлось пробиваться с отрядом в Астрахань к Кирову, и он знал, что такое пески…
После войны в низовья Волги все чаще наведывались экспедиции. Они исследовали побережье Каспия, бродили в волжской пойме, забирались в глубь полупустыни — и всюду наталкивались на следы Орлова. К этому времени у Богдо разросся, окреп лес. Под его защитой зацвели яблони, заколосилась пшеница. Однажды теплой ночью богдинцы услышали трель залетного гостя — соловья.
Выбирая места для государственных лесных полос, изыскатели решили объехать все посадки, сделанные Орловым. Почти всюду деревья прижились — и у Замьян, и у Тамбовки, и у станции Чапчачи и во многих других местах. Побывали изыскатели и в Сасыколях — там, где Орлов создал первый свой питомник в полупустыне.
Лесовод долго смотрел на могучие тополя. Он сажал их черенками в землю, на которой когда-то считалось невозможным что-либо вырастить. И вот перед ним — лесные великаны…
Я видел лес у Богдо — именно там мне и назвали фамилию лауреата Государственной премии Орлова. Слушая теперь его рассказ на террасе небольшого домика, я думал о том, что среди земных профессий не так уж много таких, где бы человек не столько покорял, сколько врачевал природу.
— А ветер переменился, — заметил Митрофан Алексеевич. — Оленька!
Вошла дочь. Она лесовод. И сын Митрофана Алексеевича тоже лесовод.
— Оленька, принеси мне ту папку, знаешь?
В папке были планы, наброски, заметки, письма.
— Вот, это с Волго-Дона. Спрашивают, чем засевать сухие откосы, чтобы не выдувало ветром. Я ответил и приписал, что, если надо, могу и лично приехать. Такое дело живой души требует. Отведут мне стандартный домик, поселюсь у самого канала, чтобы вода журчала под окнами…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
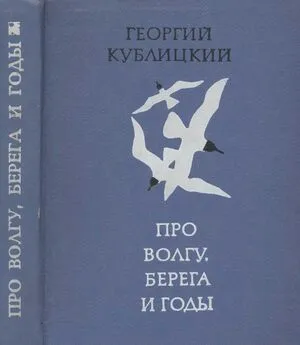









![Георгий Кублицкий - Таймыр, Нью-Йорк, Африка... [Рассказы о странах, людях и путешествиях]](/books/1073752/georgij-kublickij-tajmyr-nyu.webp)