Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]
- Название:Природа зла. Сырье и государство [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1344-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres] краткое содержание
Природа зла. Сырье и государство [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другой путь решения этой проблемы обозначил Юм. С течением столетий роскошь, доступная лишь аристократам, превращалась в показное потребление средних классов, а потом и в утешение бедняков. Сладкие десерты, цветные ткани или домашние украшения стали товарами, доступными многим. Новые товары, созданные западными технологиями из дешевых материалов, долго повторяли дизайн старых, роскошных товаров Востока. В Средние века резиденции европейских аристократов украшали шелковые панели, которые привозили из Китая или Персии; они были идеальным предметом показного потребления. В XVIII веке шелковые панели сменились обивкой из более дешевых хлопковых тканей; но геометрические и растительные орнаменты продолжали традицию, заложенную во времена шелка. В ХХ веке ту же функцию стали выполнять бумажные обои; дешевые и практичные, они украшались примерно тем же рисунком. И только в XXI веке мы стали красить стены монохромными красками, отказавшись от тысячелетней традиции шелковой панели.
Американские экономисты Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон проводят различие между экстрактивными и инклюзивными государствами. В экстрактивном государстве военная элита и трудовое население разделены культурными барьерами. Элита собирает свои доходы с трудового населения, рутинно применяя насилие, и с помощью того же насилия охраняет себя от смешения с собственным населением. Примером является российская экономика середины XIX века, основанная на крепостном праве: элита и крестьяне разделены сословными границами, но при этом зависят друг от друга, потому что без крестьян не было бы частных благ – таких, как еда и доход, а без элиты не было бы общественных благ – таких, как безопасность. Это была хищническая и часто неэффективная элита, но все же такой тип экономики обеспечивал полную занятость населения. Напротив, в инклюзивном государстве нет внутренних границ. Элита включает в себя лучших, чтобы те обеспечили посильный труд всех остальных. Это две разные системы жизни; как демонстрируют авторы, только одна из них, инклюзивная, обеспечивает долговременный экономический рост.
Институциональная теория показывает, что инклюзивность государства прямо связана с ростом экономики. Но проблемы современного мира, от ипотечного кризиса до нефтяного проклятия, связаны с реальностями экстракции, когда деньги поднимаются вверх, а люди топчутся на месте. На мой взгляд, экономисты смешивают два типа экстрактивного государства – такое, которое зависит от труда населения (например, аграрное), и такое, которое зависит от добычи природного ресурса. Самыми важными переменными здесь являются не социально-экономические, а скорее социально-географические: концентрация сырья, его редкость в природе, дистанция до потребителя, трудоемкость добычи. В ресурсозависимой экономике не работает трудовая теория стоимости: цена на сырье не зависит от труда, затраченного на его добычу. Она зависит от монополии на это сырье. В соседней стране, которую я назову трудозависимой, богатство нации создается трудом граждан. Тут нет другого источника благосостояния, чем работа населения. В этой экономике действует старая аксиома: стоимость создается трудом. Государство облагает этот труд налогом и не имеет других источников дохода. Тут не только граждане заинтересованы в своем образовании и здоровье, но и государство: чем лучше работают граждане, тем больше они платят налогов. Чем более инклюзивна элита, тем лучше управляется государство. В таком счастливом случае у элиты и народа одинаковые интересы.
Я предполагаю, что сырьевая зависимость формирует третий тип государства, который остался у Асемоглу и Робинсона не описанным; я называю его паразитическим. В таком государстве элита оказывается способной эксплуатировать натуральные ресурсы, например меха или нефть, почти без участия населения. Используя сверхдоходы, эта же элита обеспечивает внешнюю и внутреннюю безопасность. Паразитическое государство собирает свои средства не в виде налогов с населения, а в виде прямой ренты, поступающей от добычи и торговли естественным ресурсом. Это могут быть ясак, процентные отчисления, таможенные пошлины или дивиденды госкорпораций, но важно понять отличие этих поступлений от налогов, которые производятся творческим трудом всего общества.
В паразитическом государстве население становится избыточным. В этом его кардинальное отличие от экстрактивного государства – такого, как крепостная экономика имперской России, где элита жила другой жизнью, чем население, но при этом всецело зависела от его эксплуатации. Избыточность населения не означает, что элита уничтожает население или что последнее вымирает за ненадобностью. Напротив, государство делает из населения предмет своей неусыпной заботы, опеки и контроля. Асемоглу и Робинсон построили интересную теорию, согласно которой элита, собирающая налоги, находится в торге с налогоплательщиками, которые требуют более справедливого перераспределения общественного богатства. Элите всегда грозит революция; чтобы избежать ее, элита уменьшает свои требования, рационализирует расходы, улучшает управление и расходует больше средств на общественные блага. Так вместо революции происходит модернизация. Революция разрушает капиталы, а модернизация производит новые ценности, от которых может быть лучше всем – и элите, и народу.
Но в ресурсозависимом государстве, которое имеет источники дохода, не зависящие от налогов и налогоплательщиков, эта теория не работает. Так как государство извлекает свое богатство не из налогов, налогоплательщики не могут контролировать правительство. Здесь элита зависит не от труда населения, а от цены на продаваемый ресурс, которая определяется внешними силами. Такое государство формирует сословное общество, в котором права и обязанности человека определяются его отношением к основному ресурсу. Принадлежность к военнo-торговой элите становится наследственной, как в сословии или касте. Хуже того, она натурализуется, представляется как традиционная и неизменная часть природы, как это свойственно расовому обществу. Из источника благосостояния государства население превращается в предмет его благотворительности. В таком обществе формируется особого рода сословный, моральный и культурный тип, который успешно осуществляет гегемонию над другими группами людей. Иван Грозный назвал этих людей опричниками, потом они назывались как-то иначе, например помещиками или силовиками.
Институты подчиняются правилам, и институциональная экономика описывает эти правила. Но эти правила не универсальны; они зависят от содержания труда, которое зависит от используемого сырья. Правила, по которым развиваются нефтяные корпорации, отличаются от правил, по которым развиваются фирмы, занимающиеся образованием. При большем или меньшем участии человеческого труда разные виды сырья порождают разные институты. Мыслители середины ХХ века ставили под вопрос трудовую теорию стоимости, согласно которой стоимость создается трудом и только трудом. Историк Карл Поланьи формулировал понятную истину: «Производство есть взаимодействие между человеком и природой». Между тем в классической политэкономии, писал он, не учитывались природные факторы; только человеческий труд считался достойным внимания. Возвращение природы в экономическую историю состоялось тогда, когда не было уже ни классических колоний, ни классической политэкономии. Рассказывая о становлении этой науки, Поланьи удивлялся «оптимизму» Адама Смита, проистекавшему из «сознательного исключения природы». Ничто не было более чуждо Смиту, чем «прославление природы», свойственное физиократам. В определениях Смита, стоимость создается трудом и только трудом; эти определения потом нашли развитие у Маркса и его последователей. Следуя в этом за Поланьи, философ Ханна Арендт критически писала о «теоретическом прославлении труда» в классической политэкономии. В античной мысли труд был низшим источником существования, уделом рабов; в XVIII веке труд стал источником собственности (Локк), богатства (Смит) и, наконец, стоимости (Маркс). Прославление труда шло одновременно с пренебрежением природой. Стремясь навести философский порядок в этой области, Арендт проводила различие между трудом и работой. Труд является быстротекущим обменом между человеком и природой: как в натуральном хозяйстве, человек создает необходимые, но краткосрочные продукты, которые он сразу потребляет. Наоборот, работа преображает природу, создавая предметы, которые сохраняют свою ценность годами или даже веками. Еще больше преобразующей силы в политическом действии; оно почти – хотя никогда полностью – освобождается от постылой зависимости от природы. Иллюстрируя свою мысль, Арендт часто возвращалась к сравнению хлеба и стола. Хлеб живет несколько дней, а стол может храниться и использоваться поколениями. Труд создает сырье, работа преображает его: «Зерно не исчезает в хлебе так, как дерево может исчезнуть в столе». Но есть и такой уровень жизни – ни работа, ни труд, ни деяние, – на котором сам человек исчезает в природном явлении, на котором он паразитирует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/1074176/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo.webp)




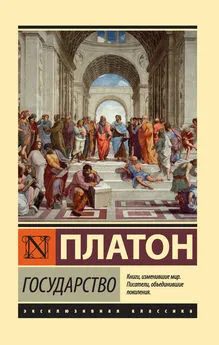


![Дмитрий Соколов - Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма [litres]](/books/1150426/dmitrij-sokolov-nebesnye-magnity-priroda-i-princi.webp)

