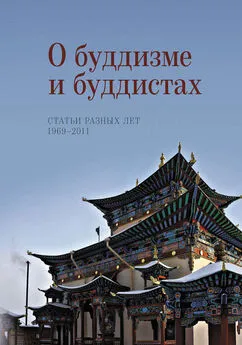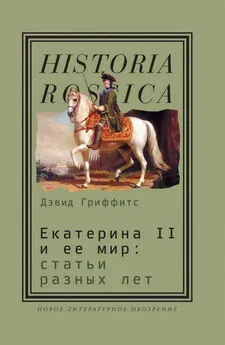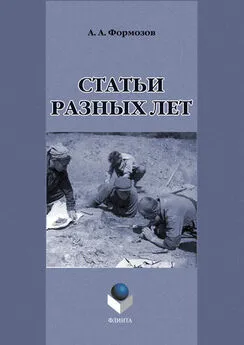Игорь Ефимов - Статьи разных лет и список журнальных публикаций
- Название:Статьи разных лет и список журнальных публикаций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ефимов - Статьи разных лет и список журнальных публикаций краткое содержание
Статьи разных лет и список журнальных публикаций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А тут вдруг из телефона выпрыгивает и настоящая новость — чудесная: Бродский в городе!
— Как? Неужели выпустили?
— Нет еще, — отвечает Рейн. — Разрешили повидать родителей. На десять дней. Приходите вечером с Мариной, он будет у нас.
Вообще, надежды на его освобождение из ссылки пузырились и булькали с весны. Все-таки они должны когда-нибудь прислушаться к голосам знаменитых заступников: Маршака, Чуковского, Ахматовой. И зарубежные писатели не умолкают. После свержения Хрущева (октябрь 1964) явно что-то сдвинулось, подули какие-то новые ветры. Даже у нас, в Ленинграде. Вот уже и нам что-то перепало: трех молодых приняли в Союз писателей. Битов, Ефимов, Кушнер. Правда, этим молодым примерно столько же, сколько было Лермонтову в год его смерти. Но ведь до них-то самому молодому члену союза в Ленинграде было сорок три. Нет, гордиться членством в союзе никто не собирается. Но, по крайней мере, нас теперь не смогут арестовать и судить за тунеядство.
Бродский пришел озабоченный, загорелый, возбужденный. Читал новые стихи. Если заглянуть в собрание сочинений, то можно увидеть, что летом 1965 года были написаны “Одной поэтессе”, “В деревне Бог живет не по углам…”, “Колокольчик звенит”, “Два часа в резервуаре”. Его картавинка едва слышна в бытовой речи, но при чтении стихов она перестает прятаться, звучит почти самозабвенно.
Есть истина. Есть вега. Есть Господь.
Есть газница меж них. И есть единство.
Одним вгедит, дгугих спасает плоть.
Невегье — слепота. А чаще — свинство.
В какой-то момент он отвел меня в сторону и спросил, свободен ли я завтра.
— Для тебя — всегда.
Он сказал, что ему нужно срочно лететь в Москву. Не соглашусь ли я поехать с ним в аэропорт? Он не уверен, что ему — с его меченым паспортом — продадут билет.
— Тебе нельзя лететь в Москву, — сказал я. — У тебя разрешение только на поездку в Ленинград.
— “Можно-нельзя” сейчас не имеют значения. Некоторые так называемые друзья сообщили, что моя так называемая подруга в Москве. И сообщили, с кем. Так что придется лететь.
(Позже про это в стихах: “…моя невеста / третий год за меня — ни с места. / Правды сам черт из нее не выбьет, / но сама она — там, где выпьет”.)
Я вижу, что уговаривать его бесполезно. И соглашаюсь. Почем знать — может быть, и проскочит. Мы уже знаем, что полицейская машина не так уж всевидяща. Да и зачем мы ей нужны? Горстка молодых людей. Надежно отгороженная от читателя цензорами, редакторами, парторгами. Пусть себе декламируют друг другу на своих коммунальных кухнях, на лестничных площадках, в электричках.
И вот утро следующего дня.
Бродский позвонил около восьми.
— Выезжаю…
— Хорошо. Я буду около парадной.
Мы не называем имен, не называем улиц. Мастера конспирации, ученики Джеймса Бонда. Но при этом есть и ирония к себе, и опаска — не впасть бы в многозначительную важность. Тоже мне, государственные преступники. Смешно.
Новенькое солнце блестит на диабазе Разъезжей, новенькие цветочки бобов алеют на прутьях нашего балкона.
Я с каждым днем все чаще замечаю,
Что все, что я обратно возвращаю —
То в августе, то летом, то весною, —
Какой-то странной блещет новизною.
За последние три года это стало спасительной привычкой. Оказывается, всякую пустую паузу жизни можно заполнить стихами. Долгий проезд в трамвае, стояние в очереди, лекцию о политическом положении. “Шествие” я перепечатывал для друзей раз пять (“Эрика” берет четыре копии) и помню его наизусть большими кусками. Чем эти строчки так завораживали нас? Откуда текло в горло почти физическое наслаждение — произносить их вслух, бормотать себе под нос? Тайна, загадка — и до сих пор, после всех умных книг и статей о лауреате Нобелевской премии 1987 года.
Все потому, что, чувствуя поспешность,
С которой смерть приходит временами,
Фальшивая и искренняя нежность
Кричит, как жизнь, бегущая за нами.
Дом Бродского — угол Литейного и Пестеля. Мой — угол Разъезжей и Правды. Такси появляется минут через десять. Он открывает мне дверцу изнутри. Сажусь. Едем. Выезжаем на Лиговский проспект.
Нет дневника — и я не могу вспомнить, пытался ли я отговаривать его во время поездки. Скорее всего — нет. Едем — и едем. Там видно будет. Тихо переговариваемся. О чем? Наверное, как всегда: колеблем старые литературные троны, водружаем новые. Бродский в разговоре — как путник в лесу. Который откуда-то знает, что все старые тропинки — обман. И нужно ломиться через чащу напролом. И напряженно вглядываться в сумрак впереди. Искать неясный просвет.
Дневника не было, но записная книжка была всегда. И какие-то задевавшие меня разговоры там застревали. (Ведь необязательно указывать имя собеседника.) Русские разговоры, как известно, лучше всего цветут в тюрьме и ссылке. Когда мы с Гординым навестили Бродского в ссылке в деревне Норенская, у нас на разговоры было три дня и две ночи. И он изголодался по ним. Но как раз в эти дни у него разболелся зуб. А ближайший врач — за тридцать километров. То есть недоступен. Когда боль накатывала очень сильно, он вскакивал, выбегал из избы, кружил некоторое время в осеннем мраке, потом возвращался и подхватывал с оборванной фразы.
В поезде на обратном пути, по памяти, я кое-что записал:
“Бродский говорил о близком ему духе искусства. Вот то, что мы видим вокруг себя и среди чего живем, — это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, вовне. Все, в чем не содержится такого устремления — хоть немного, — чуждо ему и неинтересно.
Еще он говорил, какая это жуткая штука — взгляд на себя со стороны, осознание собственных приемов и ходов, повторяющихся, пытающихся оседлать успех, и отвращение к себе за эти приемы до отчаяния, до ненависти к работе. Единственное, что может спасти здесь, — это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыды и страхи — с последующим подчищением, с возвратами назад, — но в процессе писания плевать на все, идти ва-банк, рискуя полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться — может быть, в пустоту, может быть, в гибельную, — но только так”.
— Упорная, зараза, — говорит вдруг Бродский.
— Что? — не понял я.
— Синяя “волга”. Прицепилась еще на Литейном и не отстает.
Я оглядываюсь, всматриваюсь в стада машин сзади, ничего не вижу.
— Она там, за самосвалом.
И действительно — скоро выныривает. И перед въездом на Московский проспект останавливается на красный свет рядом с нами. Человек, сидящий рядом с водителем, опускает стекло. И говорит нашему таксёру:
— За светофором — остановитесь.
Помню, меня больше всего удивило: почему таксёр подчинился? Почему не спросил: “Да кто ты такой?” На синей “волге” не было никаких опознавательных знаков. Говоривший был в штатском. Каким образом шофер немедленно узнал в нем “начальника”?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: