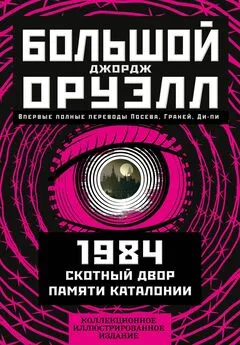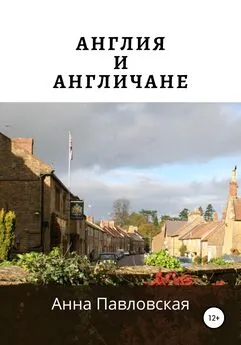Джордж Оруэлл - Англия и англичане [litres]
- Название:Англия и англичане [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-104473-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Оруэлл - Англия и англичане [litres] краткое содержание
Англичане. Вежливы и законопослушны, всегда встают на защиту слабого, но верны феодальным традициям и предвзято относятся к иностранной кухне… Они нетерпимы к насилию, но при этом не видят ничего плохого в традиционных телесных наказаниях…
Английский характер, сама Англия и произведения выдающихся ее умов – Редьярда Киплинга, Т.С. Элиота, Чарлза Диккенса, Генри Миллера – под пристальным вниманием Джорджа Оруэлла!
Когда-то эти эссе, неизменно оригинальные, всегда очень личные, бурно обсуждались в английской прессе и обществе. Но и теперь, спустя почти 70 лет, читать их не менее интересно!
Англия и англичане [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для иллюстрации я попрошу вас мысленно сравнить два стихотворения, никак не связанные между собой, но для сравнения пригодные, потому что каждое типично для своего периода. Сравните, например, одно из ранних стихотворений Элиота со стихотворением Руперта Брука, английского поэта, которым, пожалуй, больше всего восхищались в годы перед Первой мировой войной. Может быть, самые характерные для него стихотворения – патриотические, написанные в самом начале войны. Хорош сонет, начинающийся так: «А коль погибну, помните одно: / Есть уголок в дали, в земле чужой, / Что Англией стал ныне и навек» [74] * Перевод Н. Сидемон-Эристави.
. А теперь прочтите рядом с этим какое-нибудь стихотворение Элиота о Суинни, хотя бы «Суинни среди соловьев». Помните: «Круги штормовой луны к Ла-Плате / Скользят, озаряя небесный свод» [75] Перевод А. Сергеева.
?
Как я уже сказал, эти стихотворения не связаны ни тематически, ни как-либо еще, но сравнить их можно, потому что каждое характерно для своего времени и оба казались хорошими стихотворениями, когда были написаны. Второе и сейчас еще кажется таковым. Не только технически, но и по духу, по взгляду на жизнь, породившему их, по интеллектуальному наполнению эти стихи отличаются разительно. Молодого англичанина, воспитанника закрытой школы и университета, полного воспоминаний об английских дорожках, шиповнике и прочем, готового с радостью умереть за свою страну, и довольно утомленного космополита-американца, прозревающего признаки вечности в сомнительном парижском ресторане, разделяет пропасть. Это могло бы быть всего лишь индивидуальным различием, но дело в том, что с такими же отличиями, отличиями, побуждающими к таким же сравнениям, вы сталкиваетесь, сопоставляя чуть ли не любых двух писателей, характерных для того и другого периода. И с романистами – то же, что с поэтами: Уэллс, Беннет и Голсуорси, с одной стороны, и Джойс, Лоуренс, Хаксли и Уиндем Льюис – с другой. Последние гораздо менее плодовиты, пишут тщательнее, больше озабочены техникой, менее оптимистичны и, в общем, менее уверены в своем отношении к жизни. Больше того, вас не покидает ощущение, что различен их интеллектуальный и эстетический багаж – примерно как если бы сравнить французского писателя XIX века, скажем, Флобера, с английским писателем XIX века, таким как Диккенс. Француз кажется гораздо более искушенным, чем англичанин, хотя это не обязательно означает, что он лучший писатель. Но позвольте мне возвратиться немного назад и вспомнить, какова была английская литература до 1914 года.
Гигантами в то время были Томас Гарди – впрочем, переставший писать романы несколько раньше, – Шоу, Уэллс, Киплинг, Беннет, Голсуорси и, несколько особняком от остальных – напомню, не англичанин, а поляк, писавший по-английски, – Джозеф Конрад. Были А. Э. Хаусмен («Шропширский парень») и георгианские поэты – Руперт Брук и другие. Были еще бесчисленные комические писатели: сэр Джеймс Барри, У. У. Джейкобс, Барри Пэйн и многие другие. Если вы всех их прочтете, то получите неискаженную картину английского сознания до 1914 года. Существовали другие литературные тенденции, например, было немало ирландских писателей – и совсем в другом духе, гораздо более близком нашему времени, – был американский романист Генри Джеймс, но ядро литературы составляли те, кого я перечислил выше. Что же общего у писателей, таких непохожих, как Бернард Шоу и А. Э. Хаусмен или Томас Гарди и Г. Дж. Уэллс? Я думаю, существеннейшей чертой почти всех английских писателей того периода было полное неведение всего, что лежало за пределами современной английской жизни. Кто-то писал лучше, кто-то хуже, одни были политически сознательны, другие нет, но европейское влияние не коснулось никого из них. Это относится даже к таким романистам, как Беннет и Голсуорси, заимствовавшим весьма поверхностно у французских и, возможно, русских образцов. Все они выросли в обыкновенной, респектабельной среде английского среднего класса и почти бессознательно верили, что этот уклад будет держаться всегда, становясь со временем более гуманным и просвещенным. Некоторые из них, в частности Гарди и Хаусмен, смотрели на жизнь пессимистически, но, по крайней мере, верили, что так называемый прогресс был бы желателен, если бы был возможен. Кроме того, – черта, обычно сопутствующая недостатку эстетического чувства, – все они не интересовались прошлым, во всяком случае, отдаленным прошлым. Даже Томас Гарди, взявшийся за эпическую драму в стихах из эпохи наполеоновских войн, – «Династы», – смотрит на историю с позиций патриотического школьного учебника. История не представляла для них даже эстетического интереса. Арнольд Беннет, например, активно занимался литературной критикой: он не видит почти никаких достоинств ни в одной книге, написанной до XIX века, и даже не особенно интересуется другими писателями, кроме своих современников. Для Бернарда Шоу прошлое – по большей части просто грязь, которую надо смести во имя прогресса, гигиены, эффективности и всякого такого. Г. Дж. Уэллс, хотя и написал историю мира, смотрит на прошлое с неприязненным удивлением, как цивилизованный человек – на племя каннибалов. Все эти люди, независимо от того, нравилась им их эпоха или нет, думали, что она, по крайней мере, лучше прежних, и принимали литературные нормы своего времени как данность. В основе всех нападок Бернарда Шоу на Шекспира – обвинение (вполне справедливое, разумеется), что Шекспир не был просвещенным членом Фабианского общества. Если бы кому-нибудь из этих писателей сказали, что писатели следующего поколения обратятся к английским поэтам XVI и XVII веков, французским поэтам середины XIX и к философам Средних веков, они сочли бы это каким-то дилетантством.
А теперь взглянем на писателей, которые привлекли к себе внимание (некоторые, правда, начали писать раньше) сразу после мировой войны: на Джойса, Элиота, Паунда, Хаксли, Лоуренса, Уиндема Льюиса. Первое впечатление от них, если сравнивать с предыдущими (это относится даже к Лоуренсу): что-то лопнуло. Во-первых, за борт выброшена идея прогресса. Они больше не верят, будто люди становятся все лучше и лучше оттого, что снижается уровень смертности, регулируется рождаемость, совершенствуется канализация, больше становится аэропланов и быстрее ездят автомобили. Почти все они тоскуют об отдаленном прошлом, о каком-то периоде прошлого, начиная с древних этрусков Д. Г. Лоуренса и далее. Все они реакционеры в политике или, в лучшем случае, политикой не интересуются. Им дела нет до закулисной возни с реформами, которые казались важными предшественникам: право голоса для женщин, порядок продажи спиртного, регулирование рождаемости, меры против жестокого обращения с животными. Все они относятся дружелюбнее или, во всяком случае, менее враждебно к христианским церквям, нежели предыдущее поколение. И почти у всех эстетическое чувство обострено, как ни у одного, наверное, английского писателя со времен «романтического пробуждения». Лучше всего проиллюстрировать сказанное на конкретных примерах, то есть сравнив выдающиеся книги двух периодов, более или менее однотипные. В качестве первого примера сравним рассказы Г. Дж. Уэллса, собранные хотя бы в книге «Страна слепых», с рассказами Д. Г. Лоуренса, такими как «Англия, моя Англия» и «Прусский офицер». Сравнение правомерное, поскольку оба писателя были в наилучшей форме как новеллисты – или близки к ней, – и оба выражали новый взгляд на жизнь, сильно повлиявший на современную молодежь. Главные темы рассказов Уэллса – прежде всего научное открытие, а кроме этого мелкий снобизм и трагикомедии современной английской жизни, особенно более бедной части среднего класса. Его «мессэдж» – если воспользоваться выражением, которое я не люблю, состоит в том, что Наука может покончить со всеми наследственными бедами человечества; но человек пока еще слишком близорук, чтобы вполне оценить свои возможности. Для рассказов Уэллса очень характерно чередование возвышенных утопических тем облегченной комедии, почти что в духе У. У. Джейкобса. Он пишет о путешествиях на Луну и на дно моря, но пишет также о лавочниках, увиливающих от банкротства и старающихся сохранить лицо в чудовищно снобистской атмосфере провинциальных городов. Связующее звено – вера Уэллса в Науку. Он твердит, что, если бы мелкий лавочник приобрел научное мировоззрение, его несчастьям пришел бы конец. И конечно, он верит, что это произойдет – возможно, в ближайшем будущем. Еще несколько миллионов фунтов на научные исследования, еще несколько научно образованных поколений, еще несколько сданных в утиль суеверий, и всё в порядке. Если обратиться теперь к рассказам Лоуренса, вы не найдете там веры в Науку – скорее уж враждебность, – не найдете заметного интереса к будущему, во всяком случае, разумно устроенному гедонистическому будущему, какое занимает Уэллса. Не найдете там даже идеи, что мелкий лавочник или другая какая-нибудь жертва нашего общества жили бы лучше, будь они лучше образованы. Найдете же вы упорную подспудную мысль, что человек отказался от первородства, став цивилизованным. Стержневая тема почти всех книг Лоуренса – неспособность современного человека, особенно в странах английского языка, жить интенсивной жизнью. Естественно, в первую очередь он упирает на половую жизнь, и в центре большинства его книг – пол. Но он вовсе не требует, как полагают иногда, большей сексуальной свободы. На этот счет у него нет никаких иллюзий, и так называемую искушенность интеллектуальной богемы он ненавидит не меньше, чем пуританство среднего класса. Он говорит всего лишь, что современные люди не вполне живы, не важно, из-за чрезмерно жестких норм или из-за полного отсутствия таковых. Допуская, что они могут жить полной жизнью, он мало озабочен тем, при какой социальной, политической или экономической системе они живут. Существующий строй с его классовым неравенством и прочим Лоуренс в своих рассказах принимает как данность и не проявляет особенно сильного желания его изменить. Единственное, чего он хочет, – чтобы люди жили проще, ближе к земле, и волшебство таких вещей, как растительность, огонь, вода, секс, кровь, чувствовали острее, чем способны чувствовать в мире целлулоида и бетона, где никогда не умолкают граммофоны. Он воображает – и, скорее всего, зря, – что дикари или нецивилизованные народы живут интенсивнее, чем цивилизованные, и рисует мифическую фигуру, родственную уже известному нам благородному дикарю. И, наконец, проецирует эти добродетели на этрусков, населявший Северную Италию древний народ, о котором мы фактически ничего не знаем. С точки зрения Уэллса, этот отказ от Науки и прогресса, это желание вернуться в первобытный мир – просто вздор и ересь. Верно ли представление Лоуренса о жизни или ложно, надо признать, что оно все-таки было шагом вперед по сравнению с уэллсовским культом Науки и розовым фабианским прогрессизмом писателей вроде Бернарда Шоу. Шагом вперед в том смысле, что взгляды предшественников были изжиты, а не остались непонятыми. Сыграла тут свою роль и война 1914–1918 годов, развенчавшая и Науку, и Прогресс, и цивилизованного человека. Прогресс привел к величайшему побоищу в истории. Наука родила бомбардировщики и иприт, цивилизованный человек, как выяснилось, готов вести себя в критический момент хуже любого дикаря. Но недовольство Лоуренса современной машинной цивилизацией, без сомнения, было бы таким же, если бы война и не случилась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джордж Оруэлл - Англия и англичане [litres]](/books/1099943/dzhordzh-oruell-angliya-i-anglichane-litres.webp)
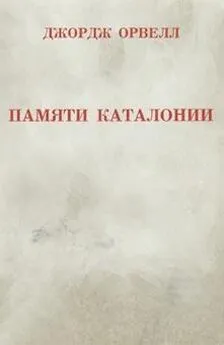
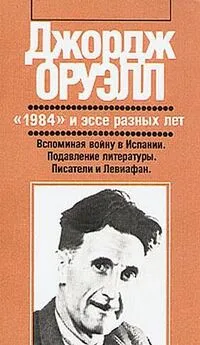

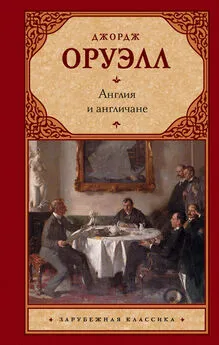
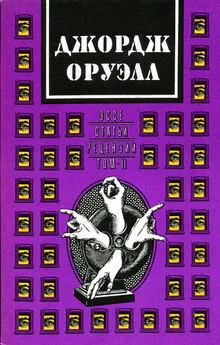
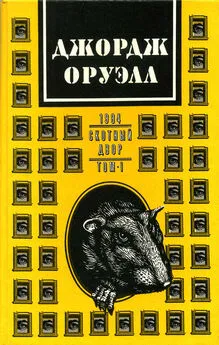
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)
![Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]](/books/1143542/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres.webp)