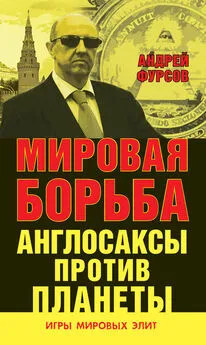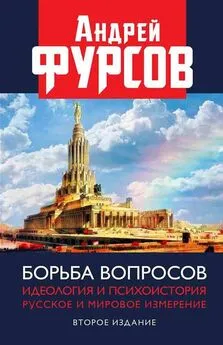Андрей Фурсов - Мировая борьба. Англосаксы против планеты
- Название:Мировая борьба. Англосаксы против планеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книжный мир
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0861-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фурсов - Мировая борьба. Англосаксы против планеты краткое содержание
Среди вопросов, над которыми размышляет автор, следующие: в чем различие и сходство Первой мировой войны и Второй? Почему началась Холодная война? Почему для англосаксов Россия всегда была и останется врагом № 1? И самое интересное для современного читателя: каким будет мир в двадцать первом веке? Академик Фурсов утверждает: это будет мир борьбы – той борьбы, которая начинается сегодня сирийским и украинским кризисами.
Мировая борьба. Англосаксы против планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
IV
С вопросом о «случайности – неизбежности» Великой войны тесно связан другой: кто виноват? Поскольку историю пишут победители, то уже в 1918 г. главным виновником была объявлена Германия (ст. 231 Версальского договора). Эту версию («версальскую»), впрочем, сразу же оспорили немцы. Речь идет о «письме профессоров» – замечаниях к докладу Комиссии союзников и ассоциированных стран по вопросу ответственности за начало войны, написанные М. Вебером, Г. Дельбрюком, М. Г. Монжелой и А. Мендельсоном-Бартольди. Они основную вину возложили на переживавшую далеко не лучшие времена Россию, на Британию духа не хватило.
В начале XXI в. появились работы (что показательно – британских авторов), в которых тоже была сделана попытка прямо или косвенно перевести стрелки на Россию и ее обвинить в возникновении войны. Попытки эти, которые совпали с кампанией уравнивания СССР с Третьим рейхом в плане вины за развязывание Второй мировой войны, оказались несостоятельными.
Непросто обстоит дело и с классовой интерпретацией механизма развязывания войны: вовсе не все группы капиталистов хотели войны, равно как этого хотели далеко не все политики государств, вступивших в смертельную схватку. Первая мировая война и ее канун со всей очевидностью продемонстрировали всю нелинейность и неоднозначность финансово-политических связей. Например, в начале ХХ в. французские финансисты хотели сотрудничать с немецким капиталом, а политики были против. Немало финансистов в Великобритании, понимавших, что в результате войны их страна из кредитора превратится в должника США, не жаждали, мягко говоря, войны. Против войны была и большая часть парламентариев – ниже мы увидим, как их «сделало» активное меньшинство поджигателей войны. Были противники войны и среди немецких промышленников. В то же время многие немецкие политики и многие американские финансисты приветствовали ее. Господствующий класс мировой капсистемы – класс не однородный и не сводимый к буржуазии, так же как капиталистическая собственность не сводится к капиталу. Все сложнее, и сложность эта еще более усиливается наличием, с одной стороны, национальных государств с протекающими в них массовыми процессами, с другой – закрытых наднациональных структур мирового согласования и управления.
Первая мировая война продемонстрировала еще одну очень важную черту, косвенно связанную и с вопросом о ее неизбежности, и с вопросом «кто виноват?». Речь идет о несоответствии практически во всех странах «человеческого материала» на уровне государств и парламентов, происходившим в мире событиям и тем задачам, которые возникали и которые надо было решать. Итальянский историк Л. Альбертини, характеризуя события лета 1914 г., прямо пишет о несоответствии между интеллектуальными и моральными способностями тех, кто принимал решения, и сложностью и важностью возникших проблем. Прочтя эту мысль Альбертини, я вспомнил, что, например, Германия оказалась заложницей не просто архаической, но исторически почти обреченной Австро-Венгрии. Ведь благодаря своей внешней политике Второй рейх должен был рано или поздно расплачиваться за контрпродуктивные попытки своего все менее адекватного современному миру союзника сохраниться в этом мире. Более того, эта жесткая связь делала Германию предсказуемой и уязвимой: чтобы «уронить» Второй рейх, достаточно было «подтолкнуть» Австро-Венгрию тем или иным способом, какой-нибудь «глупостью» или тем, что удалось закамуфлировать в качестве таковой.
Накопившиеся за десятилетия результаты совокупныхусилий европейских держав благодаря кумулятивному эффекту приобрели к 1914 г. новое качество и такой размах, что с трудом поддавались индивидуальной оценке теми, кто сформировался на решении задач на порядок проще. Отсюда попытки решить частные и сиюминутные внутренние и внешние проблемы таким путем, который стразу же создавал почти неразрешимые общие проблемы. Иными словами, помимо интересов определенных групп за августом 1914 г. стояла системно, исторически обусловленная неспособность действовавших на государственном уровне многих политиков конца XIX в. адекватно оценивать и прогнозировать качественно изменившуюся ситуацию и принимать соответствующие ей решения. Если к этому добавить внутреннюю нестабильность европейских держав и нарастающую напряженность между ними, то вероятность неадекватных решений, в том числе ведущих к войне, увеличивается на порядок, особенно если процесс направлять. Но это – подчеркиваю – системно обусловленный факт, фиксируя который я хочу сказать следующее. В «версальской версии» содержится значительная доля правды. Однако далеко не вся правда. Для меня как в методологическом, так и в моральном плане важна позиция Гюстава Ле Бона. Он заметил, что в 1914 г. именно Германия уронила в наполненную до краев чашу ту каплю, из-за которой все пролилось; но, продолжил Ле Бон, для объективного исследователя главный вопрос не в том, кто влил последнюю каплю, а кто наполнил чашу до краев, сделав войну неизбежной.
V
XIX век был (в целом) веком британской гегемонии в капсистеме, пик этой гегемонии приходится на 1815-1871/73 гг. Победа Пруссии над Францией нанесла удар по психологической составляющей британской гегемонии (здесь имеется в виду открытый эффект, об эффекте на закрытом уровне будет сказано позже). Уже в 1871 г. в Лондоне был опубликован политико-фантастический рассказ полковника Чесни «Битва при Доркинге», сюжетом которого была высадка немецкой армии в Англии. Это свидетельствовало об утрате гегемоном психологической уверенности, драйва, а война с бурами (1899-1902) породила еще большую имперскую неуверенность и стремление к экстраординарным мерам по спасению британского доминирования в таком мире, где стремительными темпами растет конкуренция со стороны Германии и США. В 1873 г. начался мировой экономический спад, который продлился до 1896 г. и во время которого Британия стала утрачивать свои экономические и стратегические позиции, а Германия в Европе и США резко двинулись вперед. Период гегемонии сменился периодом соперничества, который завершится в 1945 г.
Мировая капсистема устроена таким образом, что в ней чередуются периоды гегемонии какой-либо одной страны в экономике и политике и периоды соперничества за корону гегемона. Пик периодов соперничества – мировые «тридцатилетние» (1618-1648; 1756-1763 + 1792-1815; 1914-1945 годы) войны. Wargasm , как сказал бы покойный директор Гудзоновского института по предсказанию будущего Герман Кан. Антагонистами в таких войнах внутри самой капсистемы выступали морская держава (англосаксы – Великобритания, США), с одной стороны, и континентальная (Франция, Германия), с другой. Период соперничества, начавшийся в 1870 и завершившийся в 1945 г., отмечен противостоянием Германии и англосаксов в капсистеме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: