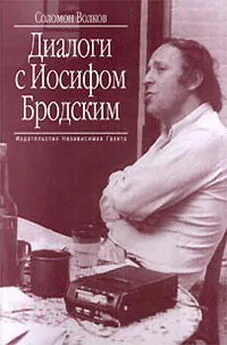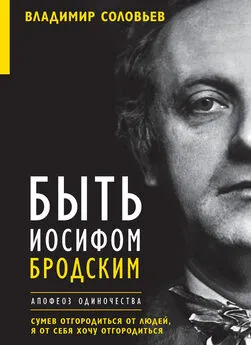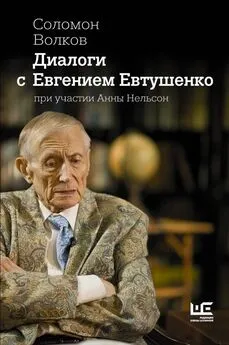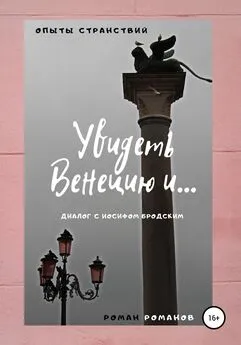Соломон Волков - Диалоги с Иосифом Бродским
- Название:Диалоги с Иосифом Бродским
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Независимая Газета
- Год:2000
- ISBN:5-86712-049-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Волков - Диалоги с Иосифом Бродским краткое содержание
Диалоги с Иосифом Бродским - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
СВ:Как и в случае с Пастернаком, и наследные дела Ахматовой, и ее похороны превратились в событие политическое…
ИБ:Пунины совершенно не хотели заниматься похоронами Ахматовой. Они всучили мне свидетельство о смерти Анны Андреевны и сказали: «Иосиф, найдите кладбище». В конце концов я нашел место в Комарове. Надо сказать, я в связи с этим на многое насмотрелся. Ленинградские власти предоставлению места на одном из городских кладбищ противились, власти курортного района — в чьем ведении Комарове находится — тоже были решительно против. Никто не хотел давать разрешение, все упирались; начались бесконечные переговоры. Сильно помогла мне З.Б.Томашевская — она знала людей, которые могли в этом деле поспособствовать — архитекторов и так далее. Тело Ахматовой было уже в соборе св. Николы, ее уже отпевали, а я еще стоял на комаровском кладбище, не зная — будут ее хоронить тут или нет. Про это и вспоминать даже тяжело. Как только сказали, что разрешение получено и землекопы получили по бутылке, мы прыгнули в машину и помчались в Ленинград. Мы еще застали отпевание. Вокруг были кордоны милиции, а в соборе Лева метался и выдергивал пленку из фотоаппаратов у снимающих. Потом Ахматову повезли в Союз писателей, на гражданскую панихиду, а оттуда в Комарово. Надо сказать, я слышал разговоры, что вот, дескать, Комарове — не русская земля, а финская. Но, во-первых, я не думаю, что Советский Союз отдаст когда-либо Комарово Финляндии, а, во-вторых, могла же Ахматова ходить по этой земле… В общем, похороны — да и все последующие события — были во всех отношениях мрачной историей. И, конечно, грех оспаривать Божью волю, но я думаю, что к смерти Ахматовой не она привела, а просто недогляд.
СВ:С чьей стороны?
ИБ:Со стороны знакомых, друзей. В Москве после больницы ее поселили в тесной каморке: духота, рядом кухня. Потом внезапный перевоз в Домодедово. И представьте себе, после третьего инфаркта на вас обрушивается весна. Впрочем, я не знаю. Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна и — воспользуюсь ее собственным выражением — беспастушна. Близкие знакомые называли ее «королева-бродяга», и действительно в ее облике — особенно когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры — было нечто от странствующей, бесприютной государыни. Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва, и т.д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали ее по мере сил. Она была чрезвычайно нетребовательна, и я не раз, навещая ее в гостях и особенно у Пуниных, заставал ее голодной — хотя именно там, у Пуниных, она «ежеминутно все оплачивала». Существование это было не слишком комфортабельное, но тем не менее все-таки счастливое в том смысле, что все ее сильно любили. И она любила многих. То есть каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих — почти всех — его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от нее исходивших. Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. Не все из нас, по крайней мере. Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного — да не знаю уж как это там называется — уровня, на котором находился, — от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. Конечно же мы толковали о литературе, конечно же мы сплетничали, конечно же мы бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это; в моем сознании всплывает одна строчка из того самого «Шиповника»: «Ты не знаешь, что тебе простили…». Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души — ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она — ответ души на существование. Примерно этому — а не навыкам стихосложения — мы у нее и учились. «Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка», — говорила она. С другой стороны, стихосложение и есть отрыв от контекста. И нам, знакомым с ней, я думаю, колоссально повезло — больше, я полагаю, чем окажись мы знакомы, скажем, с Пастернаком. Чему-чему, а прощать мы у нее научились. Впрочем, может быть, я должен быть осторожней с этим местоимением — «мы»… Хотя я помню, что когда Арсений Тарковский начал свою надгробную речь словами «С уходом Ахматовой кончилось…» — все во мне воспротивилось: ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы. «Волшебный» мы хор или не «волшебный». Не потому, что мы стихи ее помним или сами пишем, а потому, что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно. Я бы еще прибавил, что, не слишком-то веря в существование того света и вечной жизни, я тем не менее часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне за нами, наблюдает как бы свыше, как это она и делала при жизни… Не столько наблюдает, сколько хранит.
Глава 11. Перечитывая ахматовские письма: осень 1991
СВ:Иосиф, я хотел бы поговорить с вами о трех письмах Ахматовой, адресованных вам в ссылку и некоторое время тому назад опубликованных…
ИБ:Я их не перечитывал…
СВ:Первое из них — от 20 октября 1964 года…
ИБ:Боже!
СВ:…и Ахматова говорит там, что ведет с вами днем и ночью бесконечные беседы, из которых вы должны знать обо всем, что случилось и что не случилось. Это что, намек на ее прославленное умение вести разговоры, так сказать, «поверх барьеров»?
ИБ:До известной степени. По-моему, это даже не намек, а просто констатация всем нам известного факта.
СВ:Ахматова, кстати, об этом же говорила в своих воспоминаниях о Модильяни: «…его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли». И в письме к вам она делает вас своим как бы медиумом: вы «должны знать», что она о вас думает. Это правильная интерпретация данного текста?
ИБ:Более или менее — да.
СВ:То есть Ахматова считает, что для поэтов чтение чужих мыслей и прочие психологические «трюки» — дело обычное, так?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: