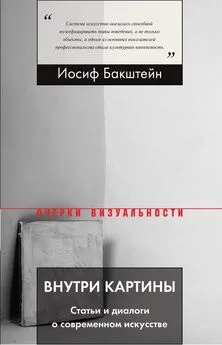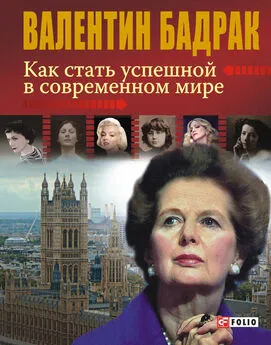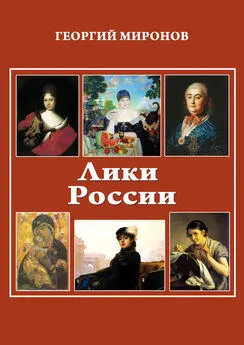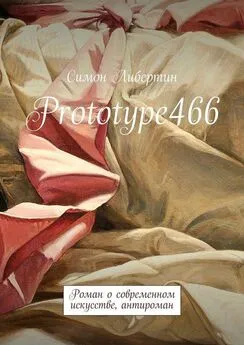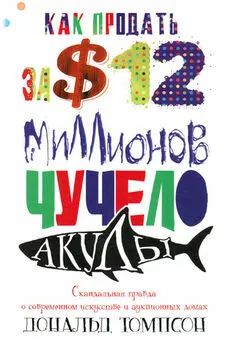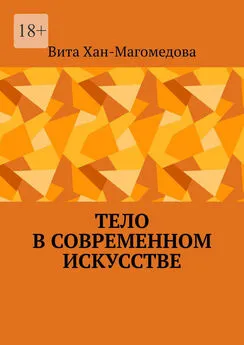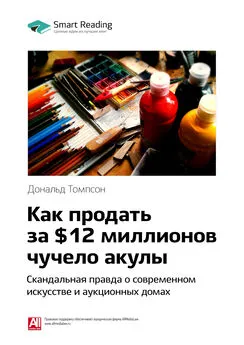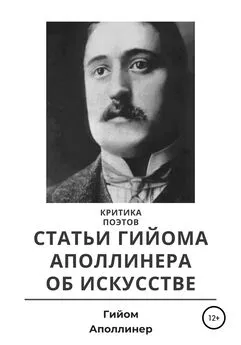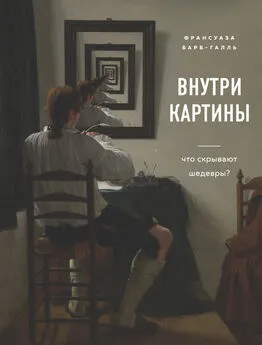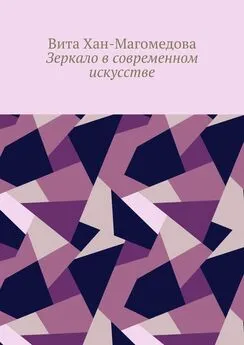Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
- Название:Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0374-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве краткое содержание
Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако можно подойти к этому явлению по-другому. Ведь на самом деле речь идет вовсе не о рефлексии. Как раз рефлексивные способности, особенно навыки социальной рефлексии у новых художников, гораздо более развиты, чем у концептуалистов-аутсайдеров периода расцвета этого направления. Ведь рефлексия, если следовать моему учителю В. Лефевру, создавшему в семидесятые годы по аналогии с языковыми играми Витгенштейна «теорию рефлексивных игр», – всего лишь способность принимать решения на основе имитации процесса рассуждений партнера (или противника). Такого рода рефлексивные навыки социального манипулирования у Кулика и его круга развиты необычайно.
Возможно, речь должна идти не о рефлексивности, а о судьбе интеллектуализма в московском искусстве. Но опять-таки, нельзя сказать, что новые художники в меньшей степени интеллектуальны, чем концептуалисты, даже поколения П. Пепперштейна, и хуже ориентируются в актуальной философской и эстетической проблематике. Ведь у Осмоловского Делез и Гваттари не сходят с уст.
Если и виден разрыв поколений, то скорее в классовом измерении. Концептуалисты положительно относились к системе ценностей и предрассудков российской интеллигенции, которая, правда, коммунистами даже за класс не признавалась, а считалась лишь социальной прослойкой. Интеллигенция – термин русского происхождения, в котором сочетаются в обязательном порядке образованность с воспитанностью, интеллектуальность с моральными качествами. Не надо обладать глубокими социологическими познаниями, чтобы понять, что все эти замечательные качества можно приобрести только в хорошо темперированном общественном устройстве, в условиях социальной стабильности, и «эпоха застоя», может быть, – идеальное время для интеллигентного человека. И, попытавшись однажды стать интеллигентным человеком, художник не может даже в изменившихся обстоятельствах быстро избавиться от своей нравственно-психологической развитости. Я не хочу всем этим сказать, что концептуализм и интеллигентность – это синонимы, но есть основания полагать, что «Последнее табу», которое охраняет (и одновременно нарушает) персонаж Кулика в его самом брутальном хеппенинге, – это те табу, та система запретов, которая существовала для русской интеллигенции в советские времена, система, которую она хотела разделить со всем цивилизованным миром и понятная, вообще говоря, любому здравомыслящему человеку. Просто тоталитарный контекст сделал в России свод социальных целей и ценностей гораздо более выявленным в сознании и поведении, чем это делает демократический контекст, и «интеллигентность» стала в нашей стране последней идеологией.
Поскольку все новое является таковым лишь по отношению к традиции, то художник вынужден искать такую традицию и рефлектировать над ней. Для соц-арта и концептуализма такой традицией была вся официальная советская семиотика, а язык ее описания был синтезирован на основе наблюдений над языками европейского и американского модернизма. Что является традицией для Кулика и других московских акционистов? Представляется, что речь должна идти о семиотике Тартуской школы, русском структурализме Лотмана и Успенского, Иванова и Топорова, потому что именно эта школа создала теорию сознания русской интеллигенции. Эта теория стала единственной полноценной традицией интеллектуализма в советской послевоенной культуре, репрезентировавшей альтернативное научное и философское мышление.
Разумеется, совершенно не важно, знакомы ли Кулик, Бренер или Осмоловский с трудами Тартуской школы или они ограничились знакомством с работами их великих французских единомышленников: Фуко и Лакана, Леви-Стросса и Барта. Традиция – она потому и традиция, что ее действие не зависит от того, знаем ли мы о своей причастности к ней. Традиция подобна закону, незнание которого не освобождает от ответственности за его нарушение. А поскольку драматизм сегодняшней ситуации состоит в том, что Закон нельзя нарушить при всем желании, так как никогда не известно, где кончается юрисдикция «Закона государства» и где начинается юрисдикция «воровского закона», то нарушить можно только нравственный закон, всеобщее законодательство Разума. Что и делает с большим художественным эффектом «Одинокий Цербер» – новое «политическое животное» Кулика, новый Герой нашего времени.
1. Осмоловский А. // ХЖ. 1994. № 3. С. 3.
2. Бренер А. // ХЖ. 1994. № 6. С. 21.
3. Дёготь Е. Московский акционизм: самосознание без сознания. Krafemessen. Muenchen, 1995 (каталог).
3 ОБ ИДЕАЛАХ ДЕМОКРАТИИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. КОМАРА И А. МЕЛАМИДА 16
Существует точка зрения, согласно которой все современное русское искусство вышло из искусства перформанса, подобно тому как русская литература вышла из «гоголевской шинели».
Я говорю об этом потому, что Комар и Меламид справедливо относятся к основоположникам русского перформанса, и в этом их влияние на современников и последователей. По сути дела, все их ранние произведения, начиная с первой работы – легендарного «Рая», были перформансами, задолго до акций группы «Коллективные действия».
«Изготовление идеального советского документа» (1975), «Переложение на музыку “Положения о паспортах”» (1976), «Телеграмма Хомейни» (1979), «Продажа душ» (1979), «Искусство принадлежит народу» (1984) – все эти ключевые для понимания творчества Комара и Меламида произведения являются, по сути дела, перформансами. Для выявления фигур преемственности в истории искусства XX века важно принять во внимание то, что у «второго русского авангарда», частью которого стал придуманный Комаром и Меламидом соц-арт, было гораздо больше схожих стилистических черт с американским поп-артом, чем с первым русским авангардом Малевича и Татлина. Хотя, если говорить об особой роли перформанса для отечественной культуры, нельзя не вспомнить о значении «Победы над солнцем» для творчества К. Малевича.
Но почему все-таки мы так акцентируем роль перформанса и в каком смысле можно трактовать как перформанс проект «Выбор народа»? Дело в том, что Комар и Меламид первыми среди независимых художников послевоенного времени осознали, что нельзя переосмыслить место искусства в обществе (особенно таком, как советское общество семидесятых), не поняв смысла искусства как значимого социального действия, причем действия, имеющего отчетливое эстетическое измерение. Для Комара и Меламида перформанс – эстетически отрефлексированное социальное действие. Именно социальность, отношение к самим себе как к общественным деятелям, хотя и с элементом самоиронии, – важная составляющая творчества художников. И чем, как не полемикой с тоталитарной концепцией взаимоотношения искусства и власти, народа и искусства, были их перформансы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: