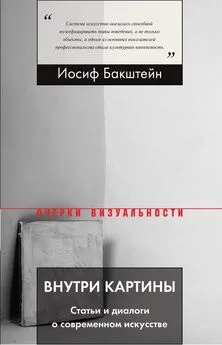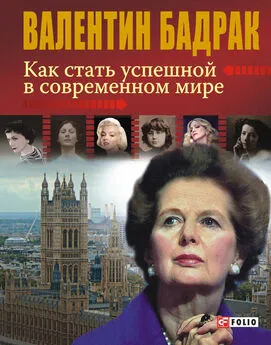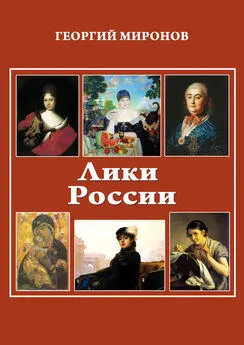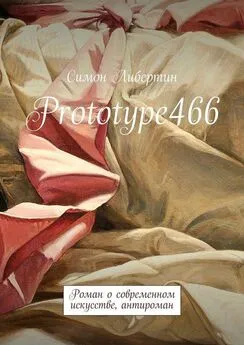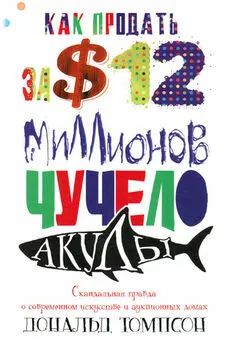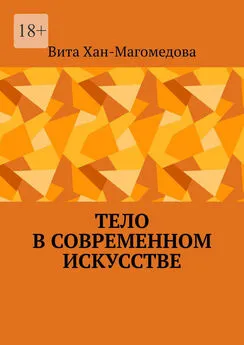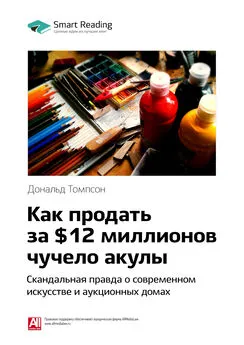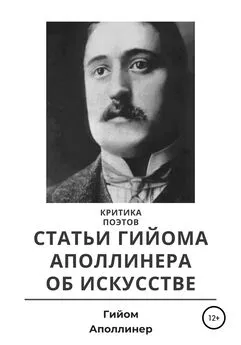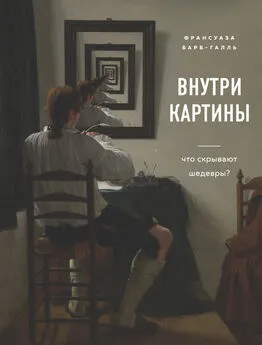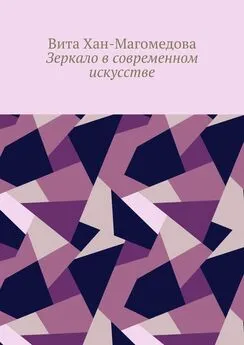Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
- Название:Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0374-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве краткое содержание
Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
М.И почему же так происходит? Может быть, потому, что в данном случае возникает дефицит критического сознания?
Б.Одну минуту, прости. Ведь на самом деле те работы, которые мы назвали в положительном смысле, действительно являются концептуалистскими. В них решается основная задача концептуализма: обсуждение условий художественного опыта.
М.Верно. И точное фиксирование места художника и зрителя как места свободного от этого произведения.
Б.Да. Ведь на самом деле здесь очень простой пространственный эффект. Достаточно в ее эстетике, в ее стилистике представить два независимо изображенных объекта, сопоставимые и в то же время различимые, как это было с «Землями», чтобы наблюдатель смог по двум проекциям воссоздать всю систему координат, чтобы возникла возможность создания своей позиции наблюдателя. Тогда же, когда она, не осознавая до конца этого обстоятельства, завязывает два изображения в единую конструкцию, эта возможность утрачивается, «наблюдателя» не возникает. Как это и получилось с «Плафоном» или с работой «Кирпич», где она, несмотря на свои пластические удачи, не поднимается на даже минимальную концептуалистскую позиционную высоту.
М.Да. И в этом смысле мы не совсем правомерно рассматриваем ее творчество на заявленном здесь горизонте критического осознания той или иной эстетической традиции. Наш горизонт не «выше» или не «ниже» какой-либо традиции, он просто другой. Ведь дело не только во внешней схожести, не в «инсталляционности». В конце концов, как инсталляции можно рассматривать жертвоприношения, богослужения, оформление идеологических парадов, инсталляции были и у дадаистов, и у сюрреалистов. Речь шла о другом. О новом, совершенно деидеологизированном типе инсталляции, о замене метафизического пространства инсталляции физическим, о другом типе телесности зрителя, который попадает в пространство инсталляции.
Б.Да. Но все же отметим, что Нахова вписывается в ту общую живописную и общехудожественную культуру, которая была свойственна модернизму и постмодернизму. Как очень точно кто-то сказал по поводу колористического аспекта работ Брускина, что в нем есть некое сочетание цветов, колорит, который уже пройден и не является характерно модернистским. Оказывается, и для меня это было очень понятно, и это очень новый взгляд, модернизм выработал и свое отношение к цвету, к гамме, и это отношение видно. Совершенно особые обертона, по которым видна модернистская или постмодернистская работа. И у Иры это есть. Этой культурой она владеет достаточно свободно. Другое дело – в какой мере она осознает каждый раз свою задачу.
М.Как у художника-концептуалиста у нее существует дефицит критического сознания, который не всегда позволяет рассматривать ее в таком статусе.
Б.Любопытно, что ее серия «Комнат» не стала концептуальной серией до тех пор, пока все эти материалы не были обработаны и не помещены в книгу «Комнаты». Ведь эти работы по своей общехудожественной семантике не выстраивались в один ряд.
М.Если не учитывать четвертую комнату, которая была сделана специально для книги «Комнаты».
Б.Да, в объемно осуществленных комнатах используется лишь некий формальный прием пространственного освоения. И все. Видно, что она решает очень формальные задачи, не развивая некую метафизическую идею, не достигая каждый раз «очищения»…
М.«Очищения» от метафизики, поскольку у нее не работает камертон «пустоты внутри картины».
Б.Да.
М.И «очищения» этих «стен». А ты не помнишь, какое у тебя было впечатление, ты был, по-моему, на этой первой, насколько я помню, в московском концептуализме, инсталляции «Рай» Комара и Меламида?
Б.Помню, конечно. Это 73-й год.
М.Можно ли сказать, что там зритель был «зрителем-персонажем»?
Б.Во многом. Они же с самого начала стали работать в этой парадигме. Там были разные фокусы, за счет которых…
М.Но мне кажется, что в то время вот эта «внешность», «персонажность» зрителя, который находится внутри инсталляции, она обеспечивалась довольно простым, прежде всего идеологическим и политическим взглядом, но не эстетическим. Ведь Кабаков использует не только наглядное пособие по советской идеологии, но именно эстетические механизмы, через объяснения и т.п. В инсталляции «Рай», насколько я помню, эти механизмы не были включены.
Б.Но я бы сделал тут, как мне кажется, такое сильное замечание, что все-таки Комар и Меламид создали постмодернистскую парадигму с гораздо большей степенью ясности, с очень большой четкостью жеста именно постмодернистского, в отличие от очень сильной модернистской стилистики у Кабакова…
М.А я считаю, что Кабаков и не ушел в постмодернизм.
Б.Да. А Комар с Меламидом сделали одну очень радикальную вещь, уже начиная с «Рая». Они разрушили этим «Раем» представление о единстве, однородности, прозрачности и такой единосхватываемости и интерпретируемости того эстетического пространства, которое насаждалось здесь с помощью всей мощи официального искусства. В «Раю» было так много ходов, приемов, с помощью которых они разбили эту однородность, ведь это же были руины советского обыденного сознания: Сталин, Будда, неизвестные голоса, запахи, подземная река. В этой работе, как часто бывает у больших художников, сразу было все. И в то же время формальное в ней – был прием, с обсуждения которого мы начали. Они поместили зрителя внутрь работы.
М.Но все-таки следует сказать и о различии этой инсталляции «Рай» и кабаковских инсталляций. Поскольку эволюция этого жанра существует.
Б.Да, но их инсталляция очень важна. Все-таки Илья создает, не знаю, может быть, я и не прав, он создает, как это ни странно, однородные пространственные интерпретации. Несмотря на то что он, в согласии с концептуалистским каноном, строит пространство для интерпретации, даже вводит их самих в саму работу. Но все-таки у него наличествует некоторое идеологическое завершение.
М.Так, может быть, это и есть идеологическое завершение обсуждаемого нами «выхода» из этих пространств?
Б.Ведь он же и по поколению, и психологически стоит гораздо ближе к экзистенциальному контексту, от него он более зависит. Может быть, как явление он и крупнее, чем Комар и Меламид, и они сами это признают, но тем не менее я хочу сказать, что они сумели с самого начала достичь постмодернистской свободы интерпретации, создали принципиально плюралистичное пространство. В их системе нет позиции Господа Бога. А у Ильи есть. Даже интонация интеллектуального и нравственного превосходства над «советским педагогом» у Комара и Меламида вполне условна: за счет иронической двусмысленности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: