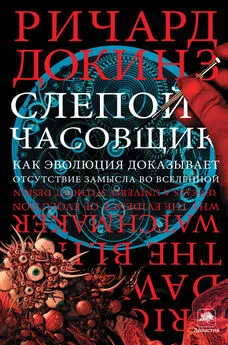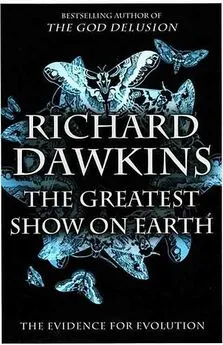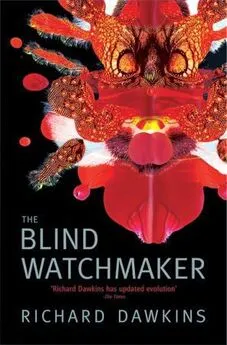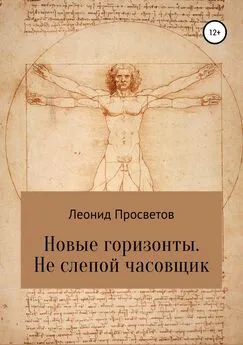Ричард Докинз - Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной
- Название:Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ : CORPUS
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-086374-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Докинз - Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной краткое содержание
Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ещe один способ разрешения данной дилеммы состоит в следующем. Возможно, каждый вид птиц и обезьян обладает плохим зрением и замечает лишь какой-то один аспект строения насекомого. Предположим, кто-то обращает внимание только на цвет, кто-то только на форму, кто-то только на текстуру поверхности, и т. д. Тогда насекомое, похожее на веточку только в каком-то одном отношении, сумеет обмануть один тип хищников, хотя и будет уязвимо для всех остальных. По мере того как эволюция движется вперед, в ассортименте у наших насекомых появляются все новые и новые черты сходства с веткой. Окончательная, совершенная во всех отношениях мимикрия была собрана воедино суммарным естественным отбором, обеспечиваемым разными видами хищников. Ни один из них не видит мимикрию полностью, на это способны только мы.
Отсюда, по-видимому, следует, что одни лишь мы достаточно “умны” для того, чтобы разглядеть это приспособление во всей красе. Однако я предпочитаю этому объяснению другое, и не только из-за такого неприкрытого человеческого снобизма. Вот мое объяснение: неважно, как хорошо видит хищник при одних условиях, — при других условиях он может видеть чрезвычайно плохо. Из своего собственного повседневного опыта мы хорошо знакомы с полным спектром возможностей от крайне плохого зрения до великолепного. Глядя прямо на палочника с расстояния 8 дюймов при ярком дневном свете, я никогда ни с чем его не перепутаю. Я замечу длинные ноги, прилегающие к “стеблю”. Могу отметить и неестественную симметричность, несвойственную настоящим веточкам. Но когда я, с теми же самыми глазами и мозгом, иду вечерними сумерками через лес, то, скорее всего, я не отличу от ветки никакое насекомое с невзрачной окраской, тем более что этих веток вокруг множество. Изображение насекомого может попасть на край сетчатки, а не на более восприимчивый центральный участок. Насекомое может быть в 50 ярдах от меня, и тогда его проекция на сетчатку будет совсем крошечной. Освещение может быть таким слабым, что я вообще едва ли сумею разглядеть хоть что-нибудь.
Фактически не имеет значения, насколько отдаленным, насколько ничтожным является сходство насекомого с веточкой, — всегда найдется некий уровень затемненности, или удаленности от глаза, или рассеянности внимания хищника, когда даже очень хорошее зрение будет обмануто этим небольшим сходством. Если в каком-то конкретном воображаемом примере вам это не кажется убедительным, просто мысленно приглушите свет или отойдите от рассматриваемого объекта подальше! Важно тут то, что множество насекомых спасли себе жизнь благодаря чрезвычайно слабому сходству с сучком, или с листом, или с чьим-то пометом в тех случаях, когда хищник смотрел на них в полумраке, или сквозь туман, или в присутствии готовой к спариванию самки. А еще многие насекомые спаслись благодаря ошеломляюще точному сходству с веточкой, возможно, от того же самого хищника в тех случаях, когда он смотрел с относительно близкого расстояния и при хорошем освещении. Важной особенностью таких переменных, как яркость света, удаленность насекомого от хищника, а изображения — от центра сетчатки и т. п. является то, что все они — непрерывные . Они изменяются незаметно и плавно на всем диапазоне значений от полной невидимости до полной видимости. Такие непрерывные параметры благоприятствуют поступательной, постепенной эволюции.
Мы видим теперь, что затруднение Рихарда Гольдшмидта — одно из целого букета затруднений, вынудивших его на протяжении большей части своей профессиональной карьеры искать убежища в крайней приверженности идее, что эволюция совершает резкие прыжки, а не движется мелкими шажками, — вовсе не представляет никакой сложности. Кстати, заодно мы в очередной раз смогли убедиться в том, что 5 % зрения лучше, чем полное его отсутствие. Каким способом ни оценивай качество изображения, очень возможно, что на периферии моей сетчатки оно ниже даже 5 % от того, что в центре. Однако и самым краешком своего глаза я в состоянии заметить грузовик или автобус. Я каждый день езжу на работу на велосипеде, а значит, эта способность наверняка спасла мне жизнь. Когда идет дождь и приходится надевать на голову шляпу, нехватка бокового зрения вполне ощутима. В темные ночи мы, несомненно, видим много меньше 5 процентов от того, что могли бы увидеть при свете дня. Однако, думаю, многим из наших предков удавалось даже в самую глухую ночь заметить что-то действительно важное — скажем, саблезубого тигра или обрыв — и тем самым спастись.
Каждому из нас приходилось (например, по ночам) сталкиваться с тем, что существует незаметная градация состояний от полной слепоты до превосходного видения и что каждый шаг в этом ряду дает ощутимые преимущества. Вращая колесико бинокля, мы легко можем убедиться, что качество фокусировки достигается путем плавных преобразований, каждое из которых является улучшением по сравнению с тем, что было до него. Медленно поворачивая рукоятку цветности на цветном телевизоре, мы увидим, что от черно-белого изображения к полноцветному тоже ведет непрерывный ряд постепенных изменений. Диафрагма радужки, расширяющая и сужающая зрачок, предохраняет нас от ослепления ярким светом и в то же время позволяет видеть при тусклом освещении. Все мы могли испытать, каково не иметь этой диафрагмы, когда нас внезапно ослепляли фары встречного автомобиля. Возможно, это было неприятно и даже опасно, однако и тогда наше зрение вовсе не отключалось полностью! Утверждение “глаз либо функционирует как целое, либо нет” на поверку оказывается не просто ложным, но самоочевидно ложным для любого, кто готов потратить две секунды на то, чтобы обдумать свой личный опыт.
Теперь давайте вернемся к вопросу 5. Может ли каждый икс в нашем ряду, связывающем человеческий глаз с отсутствием какого бы то ни было глаза, функционировать достаточно хорошо, чтобы способствовать выживанию и размножению своего обладателя? Мы уже увидели, насколько нелепа аксиома, на которой антиэволюционисты основывают свои доводы, — что отрицательный ответ сам собой разумеется. Но будет ли ответ положительным? Думаю, что да, хотя это и менее очевидно. Дело не только в том, что с неполноценным глазом лучше, чем вообще без глаз. Помимо этого, мы можем найти подходящий правдоподобный ряд структур в современном животном мире. Это, разумеется, не значит, что современные промежуточные формы выглядят так же, как предшественники глаза. Но зато мы ясно можем видеть, что глазные “полуфабрикаты”, несомненно, работают.
У некоторых одноклеточных животных имеется светочувствительное пятно с прилегающим к нему небольшим пигментным экраном. Экран загораживает свет только с одной стороны, благодаря чему простейшее может “понять”, откуда этот свет примерно падает. Среди многоклеточных подобным устройством оснащены многие черви и некоторые из моллюсков, только у них светочувствительные клетки с пигментной подкладкой собраны в чашечку. Это позволяет ориентироваться несколько лучше, так как каждая клетка получается отгороженной от разных световых лучей, падающих на чашечку под каким-то своим углом. В непрерывном ряду структур — от плоского слоя фотоэлементов до глубокой чаши — любой шаг, сколь бы малым (или большим) он ни был, улучшает зрение. Если сделать такую чашечку очень глубокой и с выпуклыми стенками, то получится камера-обскура или фотоаппарат с крохотным отверстием вместо объектива. Между плоской чашечкой и подобной камерой существует непрерывный ряд переходных форм (иллюстрацией могут послужить первые семь поколений в родословной на рис. 4).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: