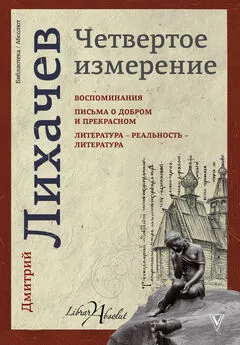Дмитрий Лихачев - Заметки о русском (сборник)
- Название:Заметки о русском (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-09027-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Лихачев - Заметки о русском (сборник) краткое содержание
Заметки о русском (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если мы будем стремиться продвинуть только одну область, то в первые моменты сможем добиться в этой одной области успехов, но за первыми успехами придут разочарования: захиреют не только области, которые мы запустили, но и те, которые мы объявили «главными».
Я сам специалист по древней русской литературе. Это уж не такая узкая область: как-никак семь веков, и при этом каких! – полных исторического драматизма, очень разных и многожанровых. Но я не считаю проблемы древней русской литературы главными, хотя и очень ими интересуюсь. Напротив, больше всего меня радует, когда изучение древней русской литературы приносит пользу для понимания других областей русской литературы: новой и советской. Изучение русской литературы во всем ее тысячелетнем объеме способно дать существенные результаты, особенно в вопросе о национальном своеобразии русской литературы (этот последний вопрос волнует меня больше всего).
И еще один аспект изучения первых семи веков русской литературы представляется мне важным. Древняя русская литература принадлежит к особой эстетической системе, малопонятной для неподготовленного читателя. А развивать свою эстетическую восприимчивость крайне необходимо. Эстетическая восприимчивость – это не эстетство. Это громадной важности общественное чувство. Это одна из сторон социальности современного человека. Она противостоит чувству национальной исключительности и шовинизму, она развивает в человеке терпимость по отношению к другим культурам – иноязычным или других эпох. Умение понимать древнюю русскую литературу – это умение ценить литературу европейского Средневековья, Средневековья Азии и мн. др.
Ведь то же самое и в изобразительном искусстве. Человек, который по-настоящему способен понимать художественные ценности древнерусской иконописи, не может не понимать искусства Византии, Египта, Европы раннего Средневековья и многого другого.
Что такое интеллигентность, культурность человека? Знания, эрудиция, осведомленность? Нет, нет и нет! Избавьте человека от всех его сведений, лишите его памяти, но если он при этом сохранит умение понимать людей иных культур, понимать широкий и разнообразный круг произведений искусства, широкий круг чужих идей, если он сохранит навыки «умственной социальности», сохранит свою восприимчивость к интеллектуальной жизни, – вот это и будет интеллигентный и культурный человек.
На литературоведах лежит большая и ответственная задача – воспитывать людей с широкой «умственной восприимчивостью». Вот почему еще сосредоточение литературоведов на немногих объектах, на одной только эпохе или одной национальной культуре противоречит основному смыслу существования нашей дисциплины.
В литературоведении нужны разные темы и «расстояния» именно потому, что оно борется с этими расстояниями и стремится сократить преграды между людьми, народами и веками.
Вот почему недопустимы «специалисты» по одному автору в наших литературоведческих институтах. Я понимаю еще существование пушкинистов, ибо Пушкин исключительно широк. Но «некрасововедение», неграмотно называемое у нас «некрасоведением» (точно изучают какого-то не известного никому писателя «Некраса»), или «шолохововедение», или даже «леонововедение» (да простит меня Леонид Максимович: я не против монографий, ему посвященных) – сплошной нонсенс, лишающий этих специалистов по одному автору необходимого кругозора.
Если говорить о методике добывания новых фактов, то с этой научно-методической точки зрения я бы подчеркнул значение работ акад. М. П. Алексеева, Б. Я. Бухштаба (я имею в виду его последнюю книгу – «Библиографические разыскания по русской литературе XIX века». М., 1966), С. А. Макашина, С. А. Рейсера, И. Г. Ямпольского и многих других.
С точки зрения методики литературоведческой археографии я бы подчеркнул значение работ В. И. Малышева, И. С. Зильберштейна, И. Л. Андроникова и мн. др.
Методика очень близка к методологии. Методика исследования – часть методологии исследования. Разработка конкретных вопросов методики – исследования – одна из насущнейших задач нашей методологии.
Литературу захлестывает журнализм. В литературе у нас очень часто места писателей занимают журналисты. Это нечто прямо противоположное.
«Хороший тон» в науке. В моей юности (когда я учился в университете) ученые щеголяли знаниями, а «идеи» оставались на втором плане. Сейчас в науке развилось стремление выдвигать идеи – самые невероятные и в большом количестве. Это выражено в книге Эдварда Боно «Рождение новой идеи» (1976): «Возможно… имеет больший смысл располагать значительным числом идей, не боясь, что часть из них окажется ошибочной, нежели всегда быть правым, не имея вообще никаких новых идей» (с. 84).
Как часто бывает – истина посередине, но не просто посередине, а с заимствованием преимуществ той и другой стороны: обоснованность от первой и инициативность от второй.
В филологической науке наиболее долговечны факты, а не идеи. Издания памятников, текстологическая работа, выясняющая историю текста тех или иных произведений, – это бесспорно необходимая на столетия работа, но она никак не может быть признана «лишенной новых идей». Обнаружить авторский текст, определить взаимоотношение редакций, видов списков текстов – это все «идеи». Достаточно вспомнить споры вокруг ефросиновского списка «Задонщины», чтобы понять, что развиваемые здесь идеи имеют колоссальное значение не только для изучения самой «Задонщины», но и для выяснения подлинности «Слова о полку Игореве». А идеи, связанные с определением отношения русской культуры XVI века к западному Ренессансу, если они не основываются на вновь выявленных фактах, документах, произведениях, устаревают через несколько лет и по большей части не годятся даже для создания новых концепций, новых «комбинаций» фактического материала, ибо материал в такого рода работах обычно получен из вторых рук.
В науке вторичность губительна. Концептуальные же работы по большей части именно вторичны, основаны на материалах, добытых предшественниками.
Методические традиции «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского кажутся мне наиболее «современными». Впрочем, современное литературоведение ни в коем случае не должно ограничиваться традициями собственной науки. Традиции истории искусств и искусствоведения, языкознания и истории философии могут представить для современного литературоведения не меньший интерес, чем собственные. Литературоведы должны быть широко образованными людьми, берущими и учитывающими все самое интересное и значительное в методологическом отношении у соседних наук.
Литературное произведение окружено «поперечными связями». Оно находится в определенной среде, с которой согласуется и от которой зависят ее художественная сторона и идейное содержание. Позади произведения – горизонтальная связь с прошлым, традиции, наследие, канонические нормы и пр. Под литературным произведением – уходят вниз глубинные связи: социальная основа, экономическая, классовая, сословная и прочая определенность литературы. Три измерения: ширина, длина и высота. Если нарисовать эти связи, получится самая общая схема самолета:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: