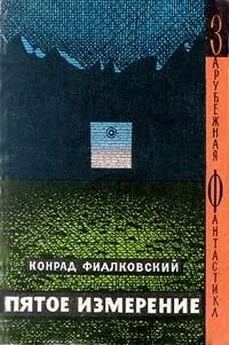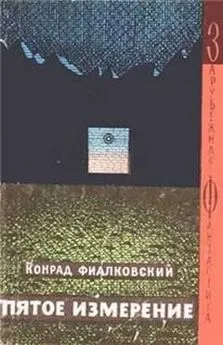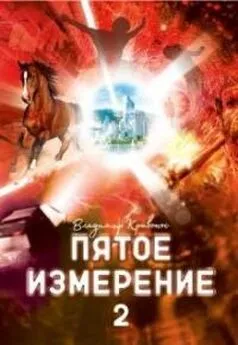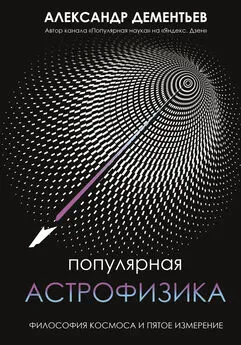Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
- Название:Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-46470-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник) краткое содержание
Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).
Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот взгляд на Запад из Скифии.
«Пошла писать губерния!»
Понять бы, откуда это… История забыла, а язык (русский) – запомнил.
«Европа пишет» звучит по-русски издевательски, перемигиваясь с советским сленгом: «контора пишет». Известно какая… Европа тут ни при чем.
Да, скифы мы, да, азиаты мы,
С раскосыми и жадными очами! —
писал Александр Блок в 1918 году, якобы приветствуя революцию.
Русская литература – очень жадная литература. Вплоть до пожирания своих детей. Как, впрочем, и щедрая… никогда не удовлетворит своих амбиций, раздавая бесплатно все направо и налево, убеждая Запад, кто мы такие, не успевая сообщить об этом самим себе.
Тот же Блок, до революции, возвращаясь из Италии, писал: «Что бы ни сделал в России человек, его, прежде всего, жалко. Жалко, когда человек с аппетитом ест. Жалко, когда таможенный чиновник, никогда не бывавший за границей, спросит вас, какая там погода…» – так писал Блок, чтобы погибнуть сорока лет в 1921-м, в один год с другим поэтом (Николаем Гумилевым), не дождавшись дня до получения заграничного паспорта.
Кто такие скифы – вопрос на засыпку. Некие племена, некогда жившие. Скифское золото, однако, сохранилось лучше, чем большевистское.
Один скиф, во всяком случае, существовал еще в VI в. до н.э. Звали его Анахарсис. Был он царского рода, но сбежал в Грецию. Запыленный и оборванный, он явился прямо ко дворцу Солона. «Зачем пожаловал?» – «Найти друзей». – «Друзей ищут у себя на родине». – «Но ты же у себя на родине!» Покоренный такой хамской логикой, царь впустил его. На вопрос, есть ли у скифов флейты, он ответил: «Нет даже винограда». Привыкши к родным безбрежным степям, он боялся моря и изобрел якорь. Став таким образом одним из «семи мудрецов», он вернулся на родину, чтобы быть убитым родным братом, опасавшимся за судьбу престола.
Так что если мы и из пропавших скифов, то насколько мы азиаты? Вопрос, как говорят, интересный. И тоже на засыпку. Наши историки гордятся тем, что мы остановили татаро-монгольское нашествие, чем спасли Европу, отстав от нее на триста лет. (Мы не раз еще ее спасем – то от Наполеона, то от Гитлера, – сокращая это отставание каждый раз на сотню лет.)
Воспринимать себя некоей подушкой, на которой покоится Европа, хоть и почетно, но и обидно. Во всяком случае, освобождаясь от татар, Россия двинула на Восток с такой скоростью, словно собиралась ликвидировать Азию как географическое понятие, присоединив к Европе. Опомнились лишь в Калифорнии: оказалось, мы бежали от Европы.
Захлебнувшись в своем пространстве на Востоке, Россия с тех пор ищет друзей в Европе. Делает она это своеобразно, хотя и не менее искренно, чем Анахарсис-скиф. Европа – маленькая, а Петр – великий. Стоит, как Гулливер, расставив ноги, одним ботфортом в Гамбурге, другим в Амстердаме, решает задачу, как это все такое маленькое увеличить до размеров России? Если клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства, то чему соответствует боязнь безграничного? Утверждают, что именно Петр назвал Россию не царством, а «шестой частью света». Любопытно, что Петра Великого подавляют слишком высокие потолки европейских дворцов, и гостеприимные европейцы навешивают ему в опочивальне специальные пологи: так ему спокойней, напоминает детство, кремлевские покои, и до потолка можно доплюнуть. В размышлениях, что есть Россия – Европа или Азия? – выпадает русская литература: она-то уж точно НЕ азиатская, но европейская ли?..
Проскочив менее чем за век путь от Пушкина и Гоголя до Чехова и Блока, продемонстрировав миру Достоевского и Толстого, русская литература сохранила свою невинность, путая гениальность с амбицией, вольность со свободой, талант с профессией, дорожа более природой слова, чем жанром, чувством, чем характером, идеей, чем сюжетом, образцом, нежели продуктом. Тут-то революция и произошла, повергая нашу литературу снова в позицию молодой.
Здесь природа нашего авангарда, ставшего едва ли не единственным всемирно признанным нашим достижением XX века.
Но то же самое наблюдалось и в моем прошлом веке – в XIX. Ведь он же был после XVIII!
Всякая постэпоха пытается породить новый стиль. Поэтому она начинает с пародии, то есть с авангарда. Авангард прикидывается традицией. Русская литература оформилась внезапно в 20-х годах XIX века, в нашем золотом, «пушкинском» веке, как постевропейская и, в силу своего неофитства и дилетантизма, носит в себе практически все черты постмодерна, которые с таким усилием пытаются выделить современные теоретики. Пародировать пародию еще легче, чем первоисточник. Так, в 1995 году, переживая проблему «дожить бы до 2000-го», оказавшись в положении квазипрофессора в Нью-Йорке, мне несложно было прочитать такие лекции, как «Россия – родина постмодернизма» и «Пушкин – первый постмодернист». Аудитория слушала меня без улыбки. Улыбался один профессор. Тогда же и сложился у меня этот взгляд на Европу из Америки, оказавшийся лишь взглядом на самого себя, то есть на Россию.
И Гулливер оказался главным действующим лицом.
Слава Богу, это детская уже книга. Как и Робинзон…
Для России Робинзон родной человек. Как же! Выжил в нечеловеческих условиях… Это нам понятно, это нам знакомо. Образ заточения…
В 1985-м, освобождаясь от запрета, я писал свою первую заказную статью – предисловие к «Мертвому дому» – для немцев (тогда еще «наших»): «Когда такой художник, как Достоевский, думает о Данте (сцена в бане) или о Сервантесе (князь Мышкин), то это мысль не о форме, а о масштабе. Масштаб был взят. Но вряд ли кто думал, и он сам, что в нем скорее, чем “Божественная комедия”, преобразуется роман Дефо».
Остров – острог. И то и другое, в человеческом смысле, необитаемо. Достоевский, как и Дефо, первым описал такого рода изоляцию. Пройдет еще ровно сто лет, и Солженицын откроет архипелаг. Представьте себе архипелаг необитаемых островов, на каждом по Робинзону!.. Где мы найдем столько Пятниц?
Никто из русских не дочитал Робинзона до конца – там уже скучно. Там Робинзон возвращается на остров, присваивает и осваивает его, и, хорошо его ограбив, разбогатев, возвращается снова, строит камин, вокруг него дом, и, рассевшись у огонька, лишь тогда начинает рассказывать своим детям о своих чудесных приключениях.
Чем больше пространства, тем меньше свободы. Поэтому люди выдумали тюрьму. Другое дело Гулливер. Правда, и его не особенно дочитывают до пророческой его части, до лапутян, гуингнмов и Японии, ограничиваясь сказкой.
И впрямь, куда важнее, что он побывал в Великании и Лилипутии.
Соизмерив себя таким образом, он обрел окончательно свой размер, размер человека, то есть стал европейцем.
Я знаю, что Робинзон англичанин, но всякий раз сбиваюсь на то, что он голландец, из самой большой маленькой и самой маленькой большой страны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: