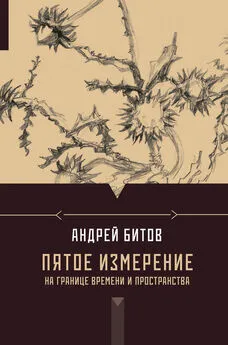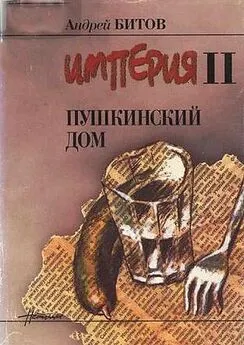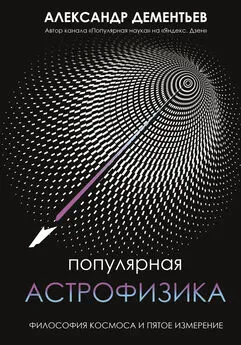Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
- Название:Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-46470-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник) краткое содержание
Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).
Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И если Карамзина мы можем назвать первым нашим прозаиком уже в современном, светском смысле слова, то ему принадлежит честь введения в нашу речь лишь двух слов: «промышленность» и «общественность». А Грибоедов и Пушкин, с детства знавшие французский лучше русского, кажется, умудрились не вводить в русский язык новых слов (сумели обойтись только уже существующими в языке, живыми словами).
А самый известный в мире русский писатель (почему-то Достоевский), вряд ли хорошо знавший французский, особенно гордился тем, что ввел в обиход глагол «стушеваться» (скорее от фортепьянного туше, чем от русского тушить).
Выходит, самый первый прозаик – это сам язык.
Проза есть переход из устной энергии в письменную. Из случая в рассказ, из рассказа в повествование. Да и может ли мысль, если она мысль, быть выражена слабым слогом? Не есть ли проза лишь страсть писателя, наркотическая зависимость от входа и вдоха (от вдохновения), от одного несуществующего в современном языке слова или понятия?
Понятие это уже сюжет слова. Пусть в Голливуде утверждают, что хороший сюжет можно выразить одной фразой. Проза более строгая муза, чем все остальные: у нее нет ни инструментов, ни мастерства, – лишь кунсткамера опытов, еще не уложенных в слова. Так много уже всем известных слов приходится потратить, чтобы высказать тебе одному открывшееся на миг слово!
Русской прозе есть кем и чем гордиться, и прежде всего тем, что автор сам стремится понять и выразить, под маской художника, невыразимый опыт современности – хаос и абсурд обступившей его и никем еще не выраженной реальности. Русская проза лучше всех ничего не умеет. Не поэтому ли поэма «Медный всадник» названа «Петербургской повестью», а «Мертвые души» – поэмой? Невнятная никому реальность переходит в ранг художественной действительности. Тогда повествование можно рассматривать как доказательство, полученное в результате произведение – как закон, не уступающий научному, а само название в результате становится формулой, не вызывающей ни у кого сомнения, как «Преступление и наказание» или «Война и мир»: замысел воплощен – теорема доказана! Когда Толстого спросили, как бы он выразил содержание своей эпопеи кратко, в двух словах, он ответил: «Мог бы короче, то и написал бы короче».
И в этом усилии настоящая проза ни в чем не уступает науке.
2011, 5 октября 2013
Барак и барокко
Барковимы [7]
Что первым я рискнул в забавном
русском слоге…
ДержавинПИСАТЬ ПОСЛЕСЛОВИЕ к Баркову – вот искушение! У меня на это столько же права и оснований, сколько у любого мужика в очереди. Был бы жив Иван Семенович, он бы ее занял. Знали бы, кто он такой, без очереди бы пропустили. А скорее, побили бы, не поверив, что это именно он…
Литература если и не экологически чистое, то почти безотходное производство: от литератора, как правило, ничего не остается. Горстка праха в костре тщеславия. Иногда остается одно лишь имя – бесславным такое существование не назовешь: как раз одна слава и осталась, это, можно сказать, карьера. Тредиаковский, Кюхельбекер… какие славные имена! отдохновенная сень исследователя. Честолюбивый Брюсов как-то сердито заметил: говорите, мол, что хотите о моих стихах, но я добьюсь того, что в XXI веке гимназист получит за меня двойку. И это так. Славно! Куда реже выживет текст, утратив имя создателя: слова народные… Но вот так, чтобы отдельно выжило имя, а отдельно текст, причем не только в истории литературы (и именно не в ней), но в живом читательском сознании – такого еще не бывало. Еще невозможней, чтобы имя автора переживало века, обходясь совсем уж без собственных текстов.
Недопустимый тон! Писать о Баркове надо только всерьез, без заигрывания и подмигивания, академически. Нельзя же продолжать хихикать, как на уроке: пестики и тычинки, строение человеческого таза, квадратный шестичлен… Так я себя различаю в барковской тени. Так нам и мяться у лжедорической колонны, умея танцевать один лишь падепатинер, в уверенности, что член у всех, кроме тебя, до колена и один ты такой, что больше трех раз не можешь. Барков и раздельное обучение – две стороны одного медалированного комплекса: профиль Иосифа Сталина и член Луки Мудищева. Не знаю, как там у других поколений, а мое уж точно трахнуто могучим орудием Баркова прямо по темечку. Он загнал нам его в подсознание под завязку, до самого подподсознания, может, и прорвал его. Какой там Фрейд!..
Надо академически – о барокко, о реализме… Начнем с реализма.
Когда и откуда вошло слово «Барков» в мое, скажем, сознание? Можно датировать: не позднее 1949 года. Это теперь для наших демократически образованных мозгов 49-й – лишь год разгула сталинской реакции, ждановщины, гонения на интеллигенцию и антисемитизма, а тогда, когда не было еще оценки и у жизни был ее состав… конечно, борьба с низкопоклонством перед Западом велась: были переименованы кинотеатры «Эдисон» и «Люкс», пирожное эклер… об этом можно было шутить: мол, торт «Наполеон» переименован в торт «Кутузов», – за это теперь, выходит, не сажали… а главное, 49-й был год великих юбилеев – 150-летия Пушкина и 70-летия Иосифа Виссарионовича… Так вот тогда же поступил под парту средней мужской школы список всенародной поэмы «Лука Мудищев» (назовем ли мы это самиздатом?) – откуда? Ведя запоздалое следствие нашего сознания, могу выдвинуть версию, что появление списков находится в некой связи со «всенародной» амнистией в связи с юбилеем (не пушкинским). То, что всенародность эта была прежде всего уголовной, доказывается притоком и других образчиков фольклора, коснувшихся имени куда более нам в то время известного, чем Барков, – творца «Дяди Степы», а именно басен «Лиса и бобер» и «Заяц во хмелю».
Таким образом, слово «Барков» поступило к нам из барака. Никому в голову такое не приходило. Шли разговоры о разгуле рецидивизма, на двери навешивались замки. Каким образом имя Баркова оказалось в результате связанным все-таки с Пушкиным, а не с Михалковым, теперь трудно установить. Не учитель же подсказал?
Кто, например, нам сказал, что Пушкин называл Баркова своим учителем? А что, может, и учитель… Может, незабвенный Вениамин Петрович, чуть работавший под неистового Виссариона: изможденность и чубчик у него были такие же. Наличие ли в тексте купчихи, сводни и мундира относило поэму на дореволюционную дистанцию, а там уже и до Пушкина рукой подать… Может, даже чуть пораньше Пушкина, поскольку учитель… Был Барков автором двух поэм, еще была поэма «Мудозвоны», вызывавшая сомнение в своей подлинности, к сожалению, впоследствии мною утраченная. А вдруг то была «Тень Баркова» под иным именем?.. Некоторые даже полагали, что и поэму «Сашка» написал тоже Барков. И это уж точно мог разъяснить нам Вениамин Петрович, что это Полежаев, а не Барков, что их никак нельзя путать, что есть и еще один «Сашка», так тот уж точно Лермонтова. Хлестаков оказался литературоведом: не тот «Юрий Милославский», а другой… В лицейских стихах была разыскана «Вишня». «Румяной зарею покрылся восток…» – все сочиняли свои первые стихи про наших училок почему-то именно в этом размере. Странно теперь воображать это ангинозное, темное, морозное окно в послевоенной сталинской гимназии как наш собственный лицейский период, но он был. И был он благодаря возрождению имени Баркова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: