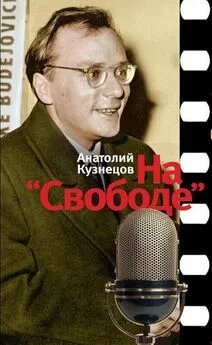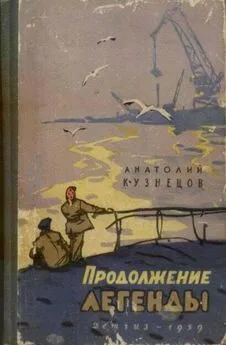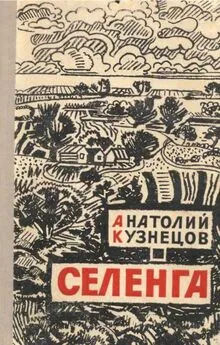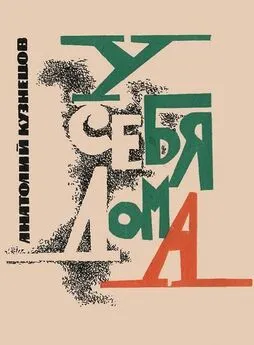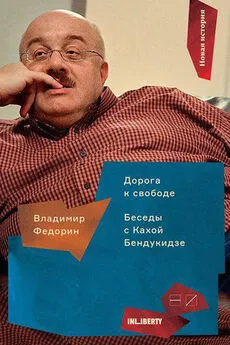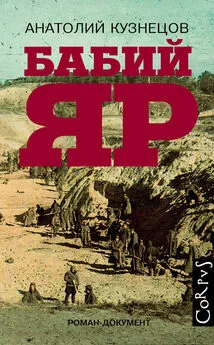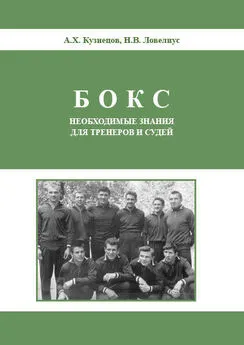Анатолий Кузнецов - На «Свободе». Беседы у микрофона. 1972-1979
- Название:На «Свободе». Беседы у микрофона. 1972-1979
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2011
- ISBN:978-5-271-36288-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Кузнецов - На «Свободе». Беседы у микрофона. 1972-1979 краткое содержание
На «Свободе». Беседы у микрофона. 1972-1979 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда в Советском Союзе после смерти Сталина случилась оттепель, в Литературном институте тоже наступило очень осторожное потепление, и тогда почти парадоксальным образом, прямо чудом каким-то были приняты несколько десятков (в течение нескольких лет) действительно талантливых, по-настоящему многообещающих. Назову имена, которые потом стали известны каждому, кто всерьез интересовался литературой последних десяти-пятнадцати лет: Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Анатолий Гладилин, Юнна Мориц, Юрий Казаков, Лина Костенко, Геннадий Лисин-Айги, Леонид Завальнюк, Визма Белшевице. Я, например, всю жизнь буду считать, что мне очень повезло попасть в Литературный институт как раз в ту пору и со всеми ними учиться. Это был всего лишь проблеск между туч, три-пять лет, потом либеральность приемной комиссии кончилась, вернее, состав ее был изменен, и с конца 60-х годов по сегодня в Литинститут опять принимают только потенциальных Кочетовых, Марковых или Ошаниных.
Либерализация тогда проявилась и в преподавании. В 1954 году мы начинали изучать историю по сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)», но к концу моей учебы он куда-то тихо и незаметно исчез. Языкознание мы проходили сперва только по гениальным трудам товарища Сталина в этой области, но под конец не только эти труды, но само имя Сталина исчезло из употребления. Мы, как гоголевские бурсаки, долбили наизусть евангелие советской литературы: статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», но и у учителей и у долбящих была при этом ирония в глазах. С иронией же в глазах профессора так разъясняли бездонную мудрость другой основополагающей статьи Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции», что у меня, например, на всю жизнь осталось к ней чувство грустной брезгливости.
Другой способ, который мы раскусили не сразу, но, раскусив, приняли восторженно-изумленно: был такой преподаватель, отчаянно кричавший то, что как раз было вздором. Схематически это можно передать так. Он говорил: «Классическая русская литература до революции дала непревзойденные образцы, но советская литература превзошла ее. Толстой, Достоевский, Чехов достигли вершин мировой литературы, но метод социалистического реализма — выше!!!» И так далее. И наконец, третьи не мудрствуя лукаво призывали нас усваивать творческое наследие классиков, упирая на слова «мастерство», «мастерство». Всем этим людям, которые сквозь какофонию официозного треска лозунгов и лжи неизвестно зачем, просто, вероятно, в силу совести, ухитрялись давать нам понять что-то, мой будет вечный поклон. Некоторые из них ныне глубокие старики, другие умерли. Их труд и их риск не пропали. Такая была, значит, одно время в Литинституте либерализация.
Я задумываюсь над этим явлением одновременного тогда появления сразу многих ярких талантов, едва лишь чуть-чуть дохнуло оттепелью. Явились сразу, как подснежники из-под снега. Последовавший новый мороз и трамбовка катками всех их задавили; но, оказывается, земля все-таки не промерзла насквозь, силы в ней есть, и семена в ней сохраняются. Случись весна — о, как они взойдут.
Сегодняшний Литературный институт в разгаре жизни не следует рассматривать всерьез. Это обыкновенное партийно-политическое учебное заведение с литераторским уклоном, готовящее литпропагандистов и ремесленников, они поставляют тот суррогат, который в советских журналах и издательствах занимает место художественной литературы в подлинном понимании этого слова.
Те случайные, как выяснилось, исключения получили все, как один, весьма тяжелую судьбу. Великолепная поэтесса Юнна Мориц, по последним известным мне сведениям, находится в сумасшедшем доме. Замечательный прозаик, в традициях Тургенева, Чехова, ученик Паустовского Юрий Казаков не принимается к печати уже много лет и как бы исчез. Геннадия Лисина-Айги знает только Запад, на родине его совершенно не печатают, он живет в свирепой нужде и затравлен. Визма Белшевице пыталась покончить с собой. Белла Ахмадулина, устав от травли, насколько я знаю, ушла в личное, ушла куда-то — как она уходила на лекциях политэкономии, подперев щеку кулаком, отрешенно глядя в окно и даже, кажется, не слыша, как профессор, надрываясь, кричит цитаты из Маркса и Энгельса.
У Анатолия Гладилина накопилось целое собрание отвергнутых сочинений, которые он зачем-то безнадежно продолжал писать, писать… Он живет в нищете, жена его сошла с ума, в довершение всего недавно, когда на Запад попала его книга «Прогноз на завтра», его заставили казенно, пошло протестовать. Самая талантливая украинская поэтесса Лина Костенко, когда я последний раз побывал у нее еще в 1969 году, имела стол, заваленный неопубликованными рукописями, показывала гранки рассыпанной и невышедшей книги, после которой ни одна работа ее уже к набору не допускалась. Окруженная слежкой, с подслушивающими микрофонами в квартире, допрашиваемая в КГБ, она производила впечатление человека, дошедшего до последней степени нервного истощения. Это было тогда. Что с ней сейчас — не знаю, ибо из Киева о ней не проникает больше ни звука. Это — судьбы лучших, на мой взгляд, студентов Литинститута, старавшихся хотя бы больше или меньше сохранить честность и человечность.
Но самой кривой и мрачной судьбой я бы назвал судьбу Евтушенко. Я знал его семнадцать лет, еще с тех пор, когда он был тихим, никому не известным, застенчивым студентом 1-го курса. Он очень изменился, он кончил цинизмом. Евтушенко сейчас в больших чинах, облагодетельствован дачей в Переделкине, совершает турне по свету, пишет поэму о Матросове. Жаль. Когда-то это был самый талантливый из всех студентов; он действительно подавал надежды огромные, отнюдь не дутые, как некоторые теперь думают. Я не буду о нем говорить подробнее, у меня осталась паутинка надежды, что, может быть, когда-нибудь он сам это сделает; лучше, чем кто-либо другой. А просто я пытался напомнить о довольно трагических судьбах тех немногочисленных действительно талантливых людей, которые одно время действительно оказались в стенах Литературного института и о которых на юбилейных торжествах и в статьях «Литературной газеты» как раз-то и не было сказано ни слова.
22 декабря 1973 г.
Им неинтересно
В своей книге «Только один год» Светлана Аллилуева описывает сцену приема у одного из секретарей ЦК КПСС, Суслова. По распространенному на Западе мнению, Суслов считается главным идеологом советской коммунистической партии, следовательно — и страны.
Аллилуева просила разрешить ей поехать в Индию. Ее муж, индиец, коммунист Сингх, был тяжело и почти безнадежно болен, и в качестве, пожалуй, последней попытки спасти его она хотела свозить его на родину, где климат, может, оживил бы его или, наконец, просто «дым отечества»… На свою просьбу она тогда получила отказ: не пустили в поездку за границу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: