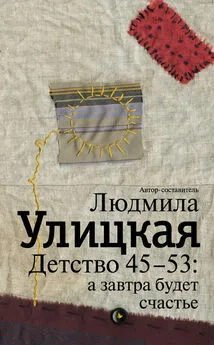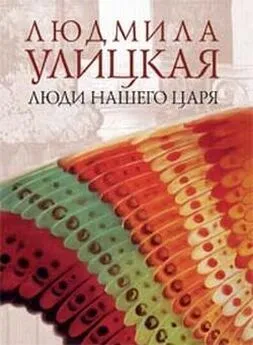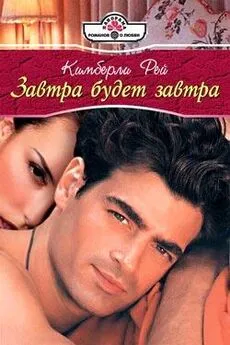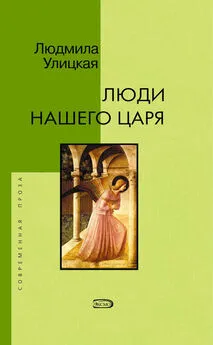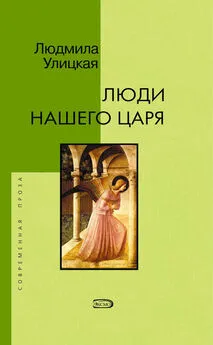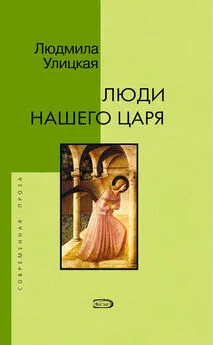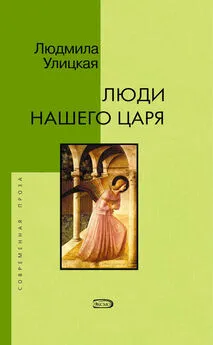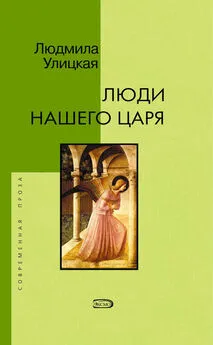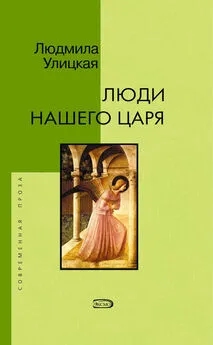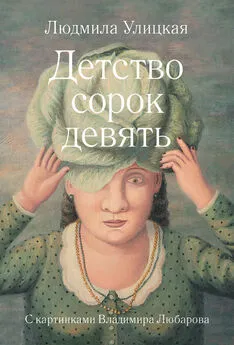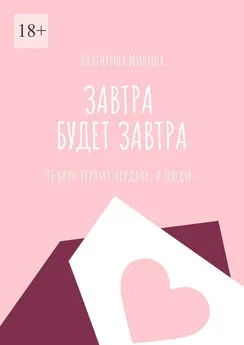Людмила Улицкая - Детство 45-53: а завтра будет счастье
- Название:Детство 45-53: а завтра будет счастье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-079644-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Улицкая - Детство 45-53: а завтра будет счастье краткое содержание
«…Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители…
С тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме большой истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и «малая» история каждой семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание… Не поймут, что значит «довесок» (к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца… То, о чем мы не смогли рассказать словами, дополнят потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И мы часто даже не можем вспомнить имена этих людей… Мы должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания». ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.
Детство 45-53: а завтра будет счастье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я был ужасно дотошным в детстве. До всего было мне дело. В селе в то время была мода – все подушки (символ достатка в семье) укладывать на кровать, а уголки заправлять вовнутрь. Вот я и решил «помочь» маме и бабке – зачем каждый день заправлять эти уголки – можно ведь вообще подушку без уголков сделать. Я взял ножницы и обрезал во всех подушках уголки. Пух и перья летали по всей комнате. А я сидел среди них очень довольный – помощник!
Годы были голодные, а организм растущий. Покушать я любил. Бабушка и мама растили весь год свинью. Забивали обычно ее к Пасхе (хоть и не праздновали этот праздник, но постились тайком и к нему готовились). И в чулане к Пасхе появлялись кольца колбасы, привязанные к потолку. Приправленные чесноком, пахли они на весь дом. И вот однажды я не выдержал – стащил одно колбасное кольцо и побежал к другу Вовке. Мы спрятались в кустах за огородом и стали лопать, именно лопать колбасу. А она большая, жирная, а хлеба мы не догадались взять. После пяти-шести кусков поняли, что больше не съедим. А куда девать остатки? Словом, в тот день праздник живота был и у дворового Дружка, который прибежал на запах. Потом весь вечер меня тошнило, и животом я промаялся еще день. Бабка и мать жалели, лечили, но когда обнаружили пропажу, всыпали хорошенько. Я потом долго на колбасу смотреть не мог…
Отец был учителем, поэтому у него был паспорт, в отличие от колхозников, которые этого паспорта не имели. Он мог поехать в другой город и что-нибудь оттуда привезти. И вот как-то привез нам с сестрой тетрадки, на которых сзади был нарисован странный жук – полосатый – и было написано, что этого жука обязательно нужно уничтожать. (Эти тетрадки, кстати, потом мама нашла у бабушки в чулане.) Мы такого жука никогда не видели и очень удивились, а отец объяснил, что это колорадский жук, который поедает картошку. Вскоре мы нашли на огороде такого жука, запихнули его в коробку и носили – всем показывали. А чуть позже не знали, как от него избавиться – заполонил он все огороды. Отец сказал, что это была американская диверсия…
В то время письменные принадлежности были на вес золота. Особенно карандаши, тем более цветные. Писали чернильными ручками, носили с собой в портфеле чернильницу-непроливайку. Поэтому и почерк у большинства детей и взрослых в то время был хорошим. Красным карандашом отец проверял тетради. Однажды мы с сестрой взяли тайком у него этот карандаш порисовать и сломали. Отец нам так всыпал за это! Ведь проверять тетради было больше нечем!
Когда перешли в среднюю школу, то каждый год сдавали экзамены. Если ученик их не сдавал, то мог остаться на второй год. Это был позор. Я учился хорошо, но отличником не был. А отец, будучи учителем, конечно, хотел, чтобы я все экзамены сдал на пятерки. Поэтому заставлял корпеть над книгами. А ведь почти лето на дворе! И вот в конце седьмого класса эти экзамены отменили! У всех было столько радости! Я свои тетрадки разбросал по всему огороду. Правда, потом отец заставил их собрать. Но это было уже неважно…
…Может быть, многим покажутся неинтересными, но мне кажется, они, все эти мелочи, подробности из детства моих родных, составляют мозаику жизни нашей страны. Я уверена, что дети сороковых-пятидесятых годов прошлого века были счастливыми, несмотря на недостаток многого. Но хватало вполне и того, что было – чистоты помыслов, уверенности в завтрашнем дне, любви и уважения к своей стране, победившей фашизм. И как знать, кому можно позавидовать – нам, детям информационных технологий XXI века, или им, нашим бабушкам и дедушкам, не знавшим телефонов и телевизоров, но имевшим гораздо большее, что мы и наши родители так быстро утратили…
Валентина Лис
Семейная география
Все еще шла война. Уже не на нашей земле. Бои «нависли на ордере» – так я произносила последние известия, но мамочка поправляла: «На Одере». А я упрямо говорила «на ордере», потому что слова «ордер» и «орднунг» стали такими привычными и понятными за два с половиной года оккупации Симферополя. (Кстати, я никогда не понимала в бабушкиной песне про ямщика, что такое «дарвалдая», пока своими глазами не увидела строчку: «…и колокольчик, дар Валдая, звенел уныло под дугой».)
Крым освободили в апреле сорок четвертого. Летом пришло первое письмо от папы. Содержания письма дословно не помню, так как еще не умела читать и писать «по-взрослому», а только печатными буквами. Но письмо папочки состояло сплошь из вопросов: живы? где? кто? (кто у нас родился в феврале сорок второго года?). И главный вопрос: ждем ли? На отдельном листке в клеточку из записной «довоенной» книжки четким папиным почерком было написано стихотворение К. Симонова «Жди меня». (Записные книжки папы и мамы хранит наша младшая сестра, родившаяся в 1946 году, – Верочка, которой довелось досматривать наших родителей.) По стихам, песням, афоризмам из записных книжек родителей вырисовывается жизнелюбивый характер строителей общества: до войны папа по комсомольской путевке строил ЛЭП в Улан-Удэ, потом мама – единственная девушка студентка электротехнического факультета, старший государственный поверитель от комитета мер, весов и приборов при Совете Министров СССР в лаборатории Крымэнерго. Оба родителя – спортсмены первой величины на Всекрымских соревнованиях: папа – по классической борьбе, мама – по спортивной гимнастике.
Кроме известных довоенных песен, таких, как «Наш паровоз, вперед лети – в коммуне остановка», «Песня о встречном», «Дан приказ ему на запад», в записной книжке у папы была «Песня военных корреспондентов», утверждающая, что «помирать нам рановато: есть у нас еще дома дела», «Эх, дороги», «В лесу прифронтовом» и, конечно, песни из репертуара Клавдии Шульженко, стихотворения Симонова, Светлова, Твардовского.
В конце папиного письма было обращение к знакомым и незнакомым людям, если… в любом случае… Это был очень убедительный и отчаянный зов надежды и (если…) сострадания.
…Наша многочисленная интернациональная семья прошла войну с потерями, но меньшими, чем другие семьи: муж старшей тети пропал без вести на оборонных работах; старший дядя, единственный сын бабушки, ушел с женой-еврейкой на «регистрацию смешанных браков» и не вернулся; через три месяца по доносу нас, тринадцать человек, забрали в гестапо, но выпустили, оставив только семилетнюю Светочку – дочку дяди. В октябре сорок второго года умерла от горя бабушка Вера.
Нас, караимов, не тронули ни гитлеровская, ни сталинская «переселенческая» комиссии, решавшие вопрос, к кому мы ближе по происхождению: к евреям или к крымским татарам…
…На семейном совете решили: всей ордой встречать папу дома – на вокзал пойдет мама с детьми.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: