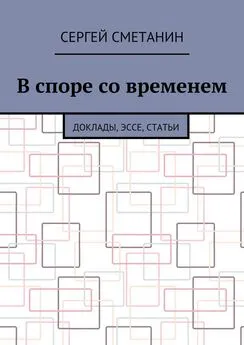Сергей Гандлевский - Эссе, статьи, рецензии
- Название:Эссе, статьи, рецензии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Гандлевский - Эссе, статьи, рецензии краткое содержание
В книгу вошли эссе, статьи и рецензии разных лет.
Эссе, статьи, рецензии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Г. Чхартишвили попытался по возможности хладнокровно приблизиться к ужасному явлению, и ему эта попытка удалась. Прежде всего потому, что автором владел интерес не исключительно исследовательский, а личный: “Признаюсь, что страх – вообще один из главных стимулов написания этой книги…” – понятный резон. А вторая причина, давшая свободу и смелость рассуждать на зловещую тему, состоит в том, что самоубийство и не тема вовсе, а только содержание книги, предлог. А тема исследования – чувство собственного достоинства – “самый ценный из продуктов эволюции”, по убеждению автора. Как далеко можно зайти в отстаивании личного достоинства. Вплоть до добровольной смерти – таков пафос книги.
Впечатляет энциклопедическая широта кругозора, уверенность, с которой Г. Чхартишвили поминает в связи с предметом своих изысканий эпохи, цивилизации, вероисповедания, философские и психиатрические системы. И все это не на “птичьем” языке высоколобых и без журналистской бойкости, а внятно, сдержанно и человечно. Естественностью тона исследование во многом обязано своеобразному юмору. Звучит шокирующе, учитывая тематику книги, но это так.
“Писатель и самоубийство” написана автором с сильным интеллектом, привыкшим доверять разуму, более того, человеком цивилизованным в лучшем смысле и добропорядочным. Не знаю, где как, а у нас такое мироощущение – редкость. В отечественной традиции добропорядочность опрометчиво считается родственницей ограниченности. (Эта традиция погорячилась и регулярно пожинает горькие плоды своей горячности.) Правда, порой автор впадает в грех рассудочности. Г. Чхартишвили не хуже моего знает, что мерить религиозное чувство либеральным аршином не очень целесообразно. Но когда доходит до дела, в голосе автора, случается, сквозит высокомерие рационалиста-интеллектуала. Верующий едва ли согласится, что ему “стреножили душу”, вряд ли нуждается в сочувствии и снисхождении. Он сам нам, чего доброго, посочувствует, ибо иго Его – благо и бремя Его легко. Абсолютная независимость суждения предполагает полное равнодушие и неучастие. Всякая привязанность кладет предел свободе, в том числе и интеллектуальной. Но некоторые мыслители, Пушкин например, даже настаивали на том, что поискам истины, чтобы не быть заведомо напрасными, совершенно необходимы пристрастность, эмоциональность: “…нет истины, где нет любви”. Впрочем, с толерантно-посторонним отношением к религиозности имеет дело подавляющее большинство современников. Так что Г. Чхартишвили просто высказал то, в чем мы, как правило, стесняемся признаться.
Смерть страшна. Но если взять себя в руки на какое-то время и рассудить трезво, придет на ум, что жизнь имеет цену и оправдание только в паре со смертью. Смерть – главный довод в защиту человека, иначе его несовершенство было бы вопиющим и непростительным. Смертность – основной источник жалости к себе и (при минимуме воображения) к другим. Старение, болезнь, умирание можно рассматривать не как причину смерти, а как побочные проявления принципиальной смертности человека. Нам, каковы мы были и есть, нечего делать с бессмертием. При самом оптимистическом взгляде на мироздание мы – всего лишь “гусеницы ангелов”, как красиво сказал Набоков, и хотя бы поэтому просто обязаны умереть. Если бы смерти не было, ее бы следовало придумать. Живи мы вечно, мы бы в конце концов поубивали самих себя чем ни попадя от отвращения к жизни и к себе же, а не уходили кротко после сеанса эвтаназии, “насыщенные днями”, как прогнозирует Г. Чхартишвили в жутковатой полусерьезной утопии. Хочется верить, что человек – слишком страстное и неразумное существо, чтобы пасть так низко (см. “Записки из подполья”). Стерильный рай – в этом я полностью согласен с автором – сделает самоубийство чуть ли не стопроцентной причиной летального исхода. Но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Жизнь, по счастью, не сахар и всегда будет горька, именно поэтому за нее так цепляются и будут цепляться. Самоубийство, по счастью, останется проявлением силы или слабости сравнительно немногих. И всегда будет нести на себе печать чего-то отталкивающего и притягательного, героического и неправильного: ведь это, по ощущению, насилие не только над своей жизнью, но и над жизнью вообще.
Пугающая тайна самоубийства усадила Григория Чхартишвили за письменный стол, а нас заставила прочесть, не отрываясь, без малого шестьсот страниц. Ни автор, ни читатель не обрели ясности и успокоения – такой иллюзии и не было ни у автора, ни у читателя. Но книга позволила нам снова восхититься и ужаснуться нашей участи, в конечном счете – общей.
1999
Общее место Вступление к тематическому номеру журнала “Иностранная литература” – Memento mori (ИЛ, 2010, № 3)
Пленка между жизнью и смертью до ужаса тонка, но абсолютно непроницаема. И по насмешливому замечанию классика, попытки “первых учеников нашего герметически закрытого учебного заведения” описывать его окрестности вправе вызывать недоверие, а изредка даже неловкость. Например, один мой знакомый, человек вообще-то недюжинный и интересный, почему-то считает себя большим специалистом по загробному существованию и с ревнивым оживлением вмешивается во всякий разговор о смерти, будто смерть – какой-нибудь Подольск, исхоженный этим краеведом вдоль и поперек и ему невыносимы домыслы и слухи о хорошо знакомой местности. А доводы моего знакомого в пользу бессмертия души – все сплошь истории вроде той, как его покойный отец-профессор, расшалившись в годовщину собственной кончины, обнаружил свое присутствие падением сковород с полок. Стоило умирать, чтобы грохотать ночами кухонной утварью!
Лет тридцать назад по Москве ходила книга Реймонда Моуди “Жизнь после жизни” (ее поминает Людмила Улицкая в своем вступлении к эссе венгра Петера Надаша). Автор, американский медик, будто бы записал потусторонние воспоминания людей, перенесших клиническую смерть, и будто бы из рассказов этих следует, что религия права – жизнь продолжается и после жизни. Уверен, что не я один прочел книгу залпом: и тема, скажем прямо, захватывающая, а “тайны гроба” в молодости завораживают и пугают больше, чем в дальнейшем. Есть такой парадокс.
Одна моя приятельница тоже перенесла клиническую смерть. Надо сказать, что человек она на редкость неэкзальтированный и немногословный, так что мне, утоляя метафизическое любопытство, пришлось выуживать из нее сведения по крохам. Сперва, рассказывала она, начался подъем в абсолютную темноту, абсолютную тишину и, главное, в абсолютный покой. Приятельница оговаривается, что слова “темнота”, “тишина”, “покой” – самые приблизительные здешние обозначения тех Темноты, Тишины и Покоя, которые ее окружали. И когда я спросил, вспоминала ли она своих близких, грустила ли по ним, она в ответ отрешенно покачала головой и сказала, что я все-таки не вполне понял, что имеется в виду: тот невообразимый покой в принципе исключал возможность каких-либо чувств еще. Врачи между тем делали свое дело, и душа ее встрепенулась для возвращения. И тогда моей приятельнице пришлось мучительно припоминать устройство этого мира, причем в подробностях, – чтобы вернуться именно туда, откуда она родом: наружный вид дерева – корни, ствол, ветви, листва; внешность человеческого существа – руки, ноги, туловище, голова. И т. п. Так, складывая пазл, методом проб и ошибок добиваются знакомых очертаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
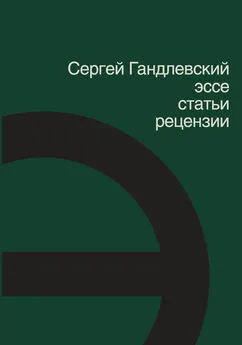



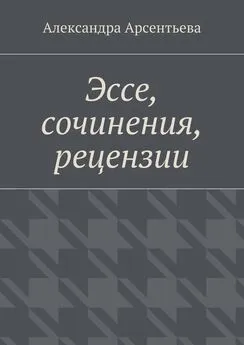

![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/1076728/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse.webp)