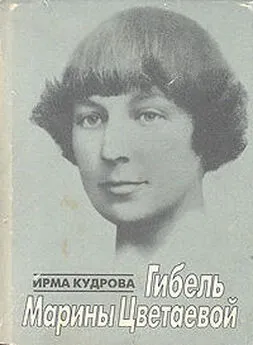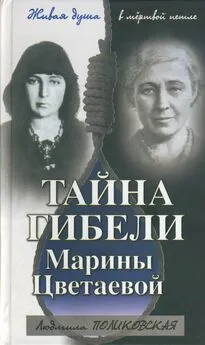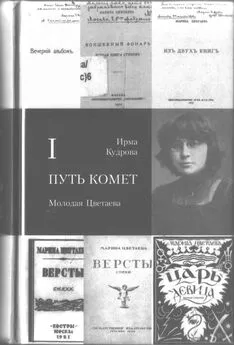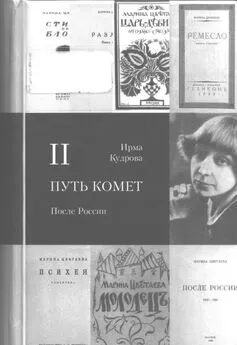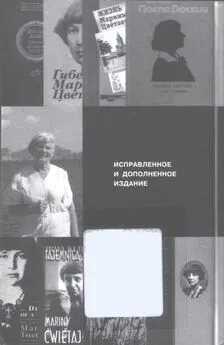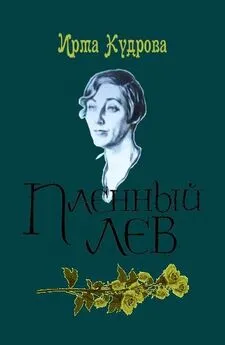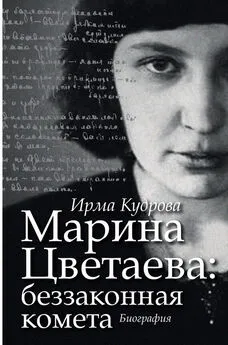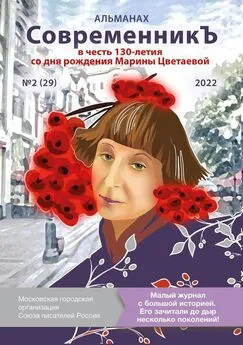Ирма Кудрова - Гибель Марины Цветаевой
- Название:Гибель Марины Цветаевой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирма Кудрова - Гибель Марины Цветаевой краткое содержание
История гибели Марины Цветаевой, написанная в жанре документальной исторической прозы, читается как трагический детектив. Тайна смерти поэта в 1941 году в Елабуге предстает в новом свете — и все же остается тайной…
В Приложениях — протоколы допросов Цветаевой в префектуре Парижа, а также эссе автора «Загадка злодеяния и чистого сердца» — об одном из повторяющихся мотивов творчества поэта.
Гибель Марины Цветаевой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дневник Мура отметил, что в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вильмонтов, а потом еще и у Тарасенковых.
В тот же день (утром? или совсем поздно вечером?), 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой.
О том, что Москва ее не вмещает. Что она не может вытравить из себя оскорбленного чувства права.
Ибо, писала она, Цветаевы «Москву — задарили»: усилиями отца воздвигнут Музей изящных искусств, а в бывшем Румянцевском музее — «три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева». Позже Марина Ивановна поставит рядом и другое свое право: уроженца города. И еще право русского поэта. И еще право автора «Стихов о Москве».
Унижение провоцирует в ней мощный всплеск уязвленной гордости.
«Я отдала Москве то, что я в ней родилась!» — так сформулировала она наконец в письме к той же Меркурьевой [43].
Сказано все это совсем не по адресу. Но где адрес, где тот имярек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного существования? Перед кем еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце?
Я склоняюсь к мысли, что письмо это писалось именно в преддверии разговора с властями , может быть, в ожидании назначенного часа.
Цветаева с пером в руках выговаривала аргументы, которые — она понимала! — ей не придется высказать властям…
Когда во Франции она спорила с мужем и дочерью о том, что именно происходит в Советской России, ей казалось, что они ослеплены и одурачены, а она в отличие от них трезва в своих оценках.
Но как далеко было ей до трезвости! Какие залежи иллюзий должны были разорваться в ней со звоном и грохотом, едва она ступила на землю отечества!
Она была готова ко многому, но не к такому.
Чего она боялась? Что ее не будут печатать, что Муру забьют голову пионерской чушью, что жить придется в атмосфере физкультурных парадов и уличных громкоговорителей… Вот кошмары, на съедение к которым она ехала, ибо выбора у нее не оставалось — выбор за нее сделала ее семья.
Она пыталась и не могла представить себя в Советской России — со своим свободолюбием и бесстрашием, которое называла «первым и последним словом» своей сущности [44]. С этим-то бесстрашием — подписывать приветственные адреса великому Сталину? А ведь даже подпись Пастернака она с ужасом обнаружила однажды в невероятном контексте на странице советской газеты.
Но ей и во сне не могло присниться, что на самом деле ждало ее в отечестве.
Не приветственный адрес ей пришлось подписывать, а челобитные и мольбы о помощи. Тому, кто вдохновлял и вершил беззаконие, кто ставил ее дочь раздетой в узкий ледяной карцер, где нельзя ни сесть, ни прислониться к стенам, а мужа доводил истязаниями до галлюцинаций.
Бесстрашие… Оно становится картонным словом из лексикона рыцарских романов, когда на карте оказывается не собственное спасение, а жизнь твоих близких.
Оно сменяется обратным: неисчезающим страхом. За близких. Но и за себя, потому что тебя стремятся превратить в колесо для распятия самых дорогих тебе людей.
«Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради, не договаривая, проглатывая куски фраз, — у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь . Как я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала…»
Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, — передача: приняли — значит, жив.
А вдруг на этот раз не примут?
Короткая запись в другом месте тетради: «Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?»
И еще запись, вбирающая все частности: «Страх. Всего » [45].
Оба слова подчеркнуты.
Зимой и весной 1940 года ее мучали ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: «Если за мной придут — я повешусь…»
В ее письмах 1939–1941 годов — россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается страх собственного ареста. А может быть, и ареста Мура. Разве не арестовали уже сына ее сестры Аси Андрея Трухачева? И сына Клепининых Алексея?
Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта — он «меченый». Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты; что ни вопрос там, то подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.
Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает.
Однажды — уже началась война — в квартиру без предупреждения пришел управдом. «Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так» [46]. Оказалось, он приходил просто чтобы проверить затемнение. Но Цветаева слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск — и арест.
Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: «Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования» [47].
Преувеличены ли были все эти страхи? Нисколько.
И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Вряд ли это так.
Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила в этом отечестве всю свою жизнь (что само по себе не подвиг и не заслуга). Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о таком чудовищном разгуле беззакония и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось здесь на ее семью, вызвало у нее такой шок.
Я думаю, мир пошатнулся бы много слабее в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, у кого все двадцатые годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов!
«Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве этих лет равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: