Валерия Пустовая - Матрица бунта
- Название:Матрица бунта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерия Пустовая - Матрица бунта краткое содержание
, Слава Сэ,
, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов,
, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский,
, Павел Крусанов,
, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.
Матрица бунта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Утрированная, сгущенная снурость окружения сосредоточивает внимание главного героя на внешней яркости и независимости как главных жизненных ценностях. Ключевыми образами счастья в Мишином сознании становятся… да хоть бы эти самые «носки-гольфы с кисточками вверху по бокам», однажды увиденные на сыне санаторного стоматолога! «Вот эти носки поразили Мишку больше всего, … что-то было в них такое, что объясняло и прекрасную игру, и общую уверенность в себе, исходящую от мальчишки». Быть первым — значит первым завладеть такими гольфами. Работать — значит быть голубовато-серым костюмом, несущим домой мороженый торт. И пусть соседский Гарик перспективный борец и отличник, ему, очкастому и некрасиво стриженному, никогда не повергнуть на маты «пухлую кепку-булку» и «белую толстую каучуковую подошву» звезды «Торпедо» Роберта Колотилина.
Символами ненавистной снурости становятся «запах крестьянской шерсти», преследующий героя призраком нищеты и раздавленности, а также полученное от столичных детей прозвище «колхозник», обидное вопреки декларативной установке эпохи на уважение к людям труда.
Тяготение Миши к предельно необщественным ценностям укрепила гибель его отца. Салтыкова-старшего задавила Падь. Она толкнула дверь в его дом и попросила одолжить его близких на сколько-то лет исправительных работ. Все равно ведь космополиты, — разводила руками Падь и шарила по углам: не спрячет ли? «Какой, к черту, случай, когда в висок?» — это виртуозно-опосредованное извещение о самоубийстве старшего Салтыкова начинает отсчет самостоятельных лет Мишкиной жизни. Он приходит в нее с опытом исключительного, ни на чье вокруг не похожего частного существования, с памятью о красоте и гармонии их дома, где все было не просто как должно быть, а даже еще лучше. Желая в дальнейшем сохранить свой частный мир от коварного вторжения эпохи, Миша инстинктивно сторонится любых общественных начинаний: для него и доносы, и комсомольские собрания суть явления одного, не касающегося его порядка. Благодаря этому становится возможной единственная в романе линия внятной эволюции героя: укрепление в нем молчаливого, непоказного мужества убегания от системы. Заставляет уважать героя не только его уход в армию как бессловесный отказ от судьбы завербованного в сексоты. Хорош и «тихий щелчок», с которым Миша молча, не спрашиваясь и не прощаясь, покидает комсомольское собрание по его делу, «осторожно» прикрывая за собой дверь, — это именно не демонстрация, не даже осознанный вызов системе, а тихое мужество убежденного частного человека, его искреннее отвращение к вмешательству должностных людей в частные дела.
В конце первой части Миша умудрено рассуждает о том, что личные мотивы, побудившие кого-то написать донос сперва на брата матери, уже отобранного у семьи на работы, а потом и на нее саму — личные мотивы не представляют угрозы. «Страх, и зависть, и ревность, и злоба» — всю эту тепленькую человечность можно понять, а значит, и побороть. Но как понять мотивы тех, кто читает доносы и принимает по ним решения из неких внеличных целей?
Огромная масса общественного — от указов власти до распорядка стандартного рабочего дня — надвинулась на жизнь Миши раскидистой лесистой падью. Общественное Миша встретил как антиличное и потому повернулся к нему спиной. По ту сторону жизни при этом остались не только вульгарный коллективизм эпохи, не только ее скрепленность порукой взаимного предательства, но и заслоненные ею надличные ценности. Вторая и третья части романа доводят до логического конца драму пытающегося отыграться частного, не сумевшего опереться ни на что вне своих частных нужд, — драму, которая чуть не погубила и героя, и этот роман, и всю нашу страну.
Райское оперение.В фестивальный сезон Москва полна ощипанных иностранцев, с которых сдергивают, сманивают, скупают их невиданное оперение с карманами на заду, превращающее совка в человека, по поверью стильных охотников. Мишка Салтыков давно уже Солт, давно в Москве, с новым другом Женькой Белоцерковским. И этот друг, посвященный в законы стиляжьей столицы, и эти вольные московские девушки в похожих сарафанах, шитых у одной и той же мастерицы по одной и той же картинке из заграничного журнала, и эти деньги, которые так опасно, но обильно ссыпаются на тебя, если ты не жлоб и умеешь трясти стоящей шмоткой перед желающим модно обтянуться кошельком, — все это красиво и легко, все в радость.
Резвости полета в магическом оперении, впрочем, мешает нехилый камень, которым Падь мстительно пометила вырвавшегося из нее навсегда Мишку. Вот-вот умрет вернувшийся к ним после амнистии мамин брат — к ним, потому что жена и дочь в его отсутствие погибли от тифа. В доме останется только ослепшая от потрясения мать, и, будто мало ее беспомощности, к ней добавится двойным грузом беременная жена Нина, тоже напоминание о Пади — одноклассница, любовь детства.
Во второй части жизнь героя — вызов эпохе коллективизма: в ней подчеркнуто частные нужды и частные трагедии. Его диалог с университетским активистом Глушко показывает глубину непонимания эпохой нужд и прав частного человека. Глушко воплощает собой грандиозный крен пренебрежения к личному, исказивший тогдашнюю жизнь. «Матери у всех… Все из одного места вылезли», — цинично обрывает он оправдания героя, не желая понять, что значит мать не как у всех — слепая вдова самоубийцы, что значит страх безденежья, страх за вверенные тебе судьбой три беспомощных жизни. Постоянный страх «катастрофы», что из-за неявки на собрание по абстракционистам тебя исключат, всплывет коммерция, припомнят карманы и кепки… «Армия… Мать. Нина. Ребенок. <���…> Жизнь кончалась, у него отнимали жизнь».
Пренебрежение времени к этой правде частной нужды гипертрофированно компенсируется в изгнанниках эпохи, ставших в романе ее королями, — стилягах.
Вторая часть переполнена описаниями приличной, редкой, модной, как настоящей, и правда из U.S.A.одежды. Каждый эпизодически введенный в действие человек оценен по его молниям и лейблам, разрезам и воротничкам, ткани и прическе. «Судьба ему улыбнулась» — планида кожаной куртки столкнулась со счастливой звездой героя. А как вам нравится «нездешней красоты» — «цветастая клеенка»?
И — нужная деталь: герой идет мириться с не на шутку расстроенной и разозленной Ниной, и автор не преминул при приближении к лежащей в постели героине описать одеяло и «красивый, с прошвами пододеяльник».
Этот удивительный вещизм эпохи идеологических ценностей, конечно, происходил от дефицита — нехватки вещей, удобства, внимания к повседневным радостям цивилизации вроде носков с резинками, которые можно не подвязывать. Стиляги знаменовали собой возвышенную тягу прочь от уродства, сдавленности, колкости жизни — стиляги это воля к прекрасному. К тому же они не зря считаются первыми советскими либералами, боровшимися за частное право, частное дело, за выдворение государственного носа из твоих личных обстоятельств. Но стиляги выражали собой и униженность человека дефицитом, компенсаторное рабство его пред внешними приметами человеческого достоинства. Клянчить вещи у иностранцев, клянясь в любви чужой отчизне; позволить стильным дружкам заглянуть при встрече на обратную, с этикеткой, сторону галстуков, чтобы убедить: не подделка; доблестно корежить язык: «Бросим кости по Броду, в коке посидим», — сейчас к мальчику с таким процентом сленга в крови и не подойдешь, а тогда бы клюнула обязательно, как же, не жлоб, ра-амантик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
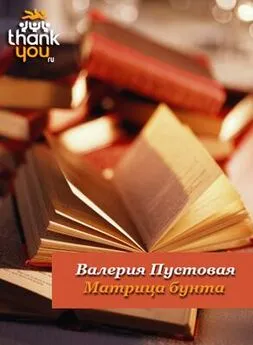

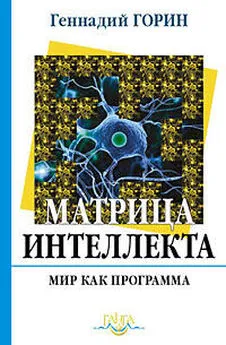

![Мак Рейнольдс - Фактор бунта. Галактический орден доблести [сборник]](/books/1063867/mak-rejnolds-faktor-bunta-galakticheskij-orden-do.webp)



