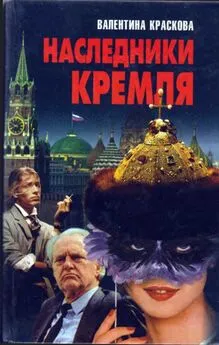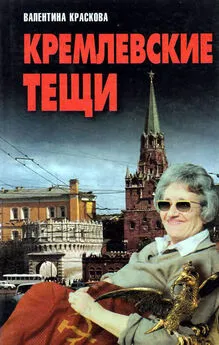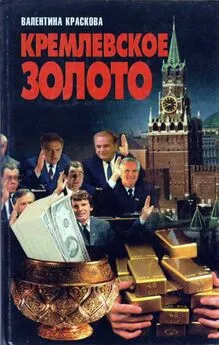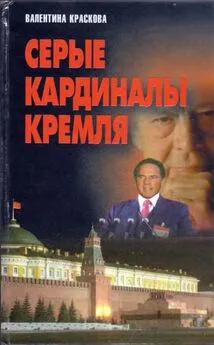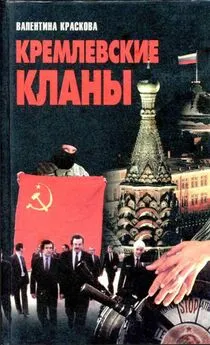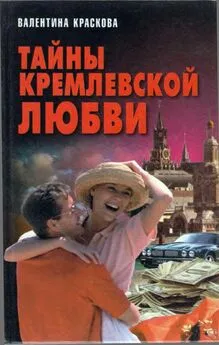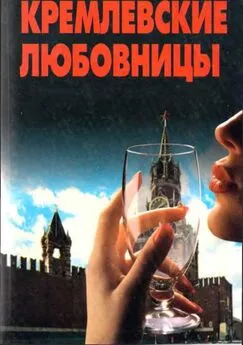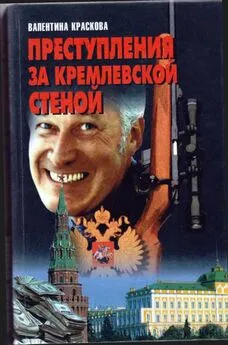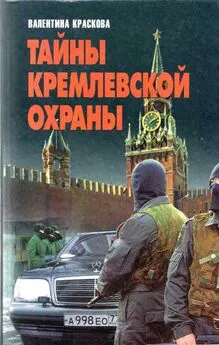Валентина Краскова - Наследники Кремля
- Название:Наследники Кремля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литература
- Год:1997
- ISBN:985-437-229-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Краскова - Наследники Кремля краткое содержание
Наследники Кремля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Представительство, придворная помпа поглощали тот избыток свободного времени, который не был заполнен развлечениями в интимной обстановке.
Царствование Анны можно считать временем расцвета придворной жизни в настоящем смысле слова. При ней эта жизнь превратилась в сплошную феерию, затянувшуюся на десять лет, тщательно и обдуманно налаженную. Это была непрерывная цепь сцен и актов, имевших почти ритуальный характер.
«При дворе, — говорил кн. М. Щербатов, — начались «порядочные многолюдные собрания» — собрания регламентированные, участие в которых было сделано обязательным для толпы статистов, допущенных в царские передние. Анна и Бирон в полной мере использовали неожиданно доставшиеся им ресурсы, чтобы проявить во всем блеске организаторские способности, долго не находившие себе достойного приложения в сравнительно убогой обстановке митавского двора».
Аннинский двор обходился государству вшестеро дороже, чем двор Петра I. Но, ложась тяжелым бременем на государственный бюджет, блеск придворной жизни оказывался не менее, если не более, разорительным для частных лиц. Обязательные расходы на представительство непомерно возросли, а средств на их покрытие было по-прежнему мало у верхов тогдашнего общества, все богатство которых сводилось к продуктам их деревенского хозяйства.
Правда, уже в царствование Петра II при дворе вошло в обычай делать новый костюм ко всякому празднику (о чем не без горечи упоминает Лириа, сам постоянно испытывавший денежные затруднения вследствие неаккуратности испанского казначейства), но праздники тогда бывали сравнительно редко. При Анне, хотевшей видеть постоянно на своих придворных новые богатые костюмы, траты на гардероб вызывали всеобщий ропот. Придворный, который издерживал в год на платье только 2–3 тыс. рублей, не мог похвастать щегольством. Один саксонец сказал польскому королю Августу II, глядя на его пышно одетый двор, что следовало бы расширять городские ворота для впуска дворян, напяливших на себя целые деревни, — этот bon mot был бы не менее уместен при Анне в России, где костюмы оплачивались именно деревнями.
Зато развитие вкуса далеко не шло вровень с прогрессом роскоши.
Манштейн говорит, что Анне не без труда и не сразу удалось облагородить придворную роскошь, но это отзыв в значительной степени подрывается тем, что тот же современник сообщает о внешней культуре русского общества. В быту высшего класса кричащая роскошь, по его словам, уживалась с полным отсутствием вкуса и поразительным неряшеством. Часто при богатейшем кафтане парик был отвратительно вычесан; прекрасную штофную материю неискусный портной портил неуклюжим покроем; или, если туалет был безукоризнен, экипаж был из рук вон плох: господин в богатом костюме ехал в дрянной карете, которую тащили клячи.
Женские наряды соответствовали мужским, и на один изящный туалет попадалось десять безобразно одетых женщин.
Из другого источника мы узнаем, что Анна и Бирон сами не могли считаться образцами хорошего вкуса. Ни она, ни он не терпели темных цветов, и их эстетика допускала только пестроту. Бирон пять или шесть лет сряду ходил в пестрых женских штофах. Даже седые старики, в угоду Анны, являлись ко двору в костюмах розового, желтого и зеленого попугайного цвета. Убранство домов было отмечено тем же вкусом: наряду с обилием золота и серебра в них бросались в глаза страшная нечистоплотность.
За время пребывания в Москве Анна несколько раз перекочевывала из дворца во дворец. После коронационных торжеств в мае она заглянула в головинский дом на Яузе, а затем переехала с двором в свою родовую вотчину, село Измайлово, где и оставалась до конца октября, пока в Кремль возле цейхгауза строился, по плану Растрелли, новый дворец, деревянный «Анненгоф».
Летом она ездила на праздник преп. Сергия (5 июля) в Троицкую лавру в сопровождении министров, двора, обеих своих сестер и Елизаветы Петровны.
Зимою она жила в Кремле, в следующем, 1731 году, летом перебралась во вновь отстроенный для нее летний «Анненгоф» на Яузе, подле головинского дома, и оставалась там до самого отъезда в Петербург 7 января 1732 года.
ПЕТР III — ИСТРЕБИТЕЛЬ КРЫС И МЫШЕЙ
Петру III, унаследовавшему трон после Елизаветы Петровны, с первых дней жизни предсказывали страшное будущее: в день его рождения взорвался пороховой ящик. Вскоре трехлетний мальчик лишился матери, умершей от простуды.
В ноябре 1741 года российская императрица Елизавета Петровна, не имеющая официального наследника, пишет своему немецкому племяннику, что она намерена призвать его к себе и готовить к престолонаследию.
Елизавета любила разнообразить свое времяпрепровождение выездами в московские окрестности, где она тешилась соколиною и псовой охотой. У нее были дворцы в Тайнинском, Братовщинском, Воскресенском монастырях, на Воробьевых горах. Охотно посещала она также подмосковные имения своих вельмож, в особенности имения своего фаворита Алексия Разумовского: Горенки, Знаменское и Перово (в Перово, по преданию, она была обвенчана с Разумовским осенью 1742 года).
Несколько раз совершались «походы» в Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим) и в Троицкую лавру. Последнюю Елизавета навещала не менее трех раз в каждый приезд в Москву и считала долгом придать очень своеобразный характер этому: пройдя в день верст пять, она возвращалась в карету к исходному пункту, отдыхала, потом опять шла пешком, опять ехала в карете — нужно было только пройти известное число верст, хотя бы при этом и приходилось топтаться на месте. Такой «поход» длился целые недели, иногда не меньше месяца. В лавре устраивалась торжественная встреча: архимандрит в воротах монастыря говорил приветственную речь, семинаристы, в белых одеждах, с венками на головах и зелеными ветвями в руках, пели сложенные ad hoc канты, палили пушки, зажигалась иллюминация. Дня три — четыре проходили в хождении по церквам и пирах в императорских покоях и у архимандрита. В Воскресенском монастыре Елизавета любила справлять именины (5 сентября) с целою толпой придворных, деля время между молитвой и вечеринками во дворце.
Современники отмечают новое усиление придворной роскоши в царствование Елизаветы.
«Двор, — говорит кн. М. Щербатов, — подражая или, лучше сказать, угождая императрице, в златотканые одежды облекался; вельможи изыскали в одеянии все, что есть богатое, в столе — все, что есть драгоценное, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобнови древнюю многочисленность служителей, приложили к оной пышность в одеянии их».
Известную роль в этом случае сыграла, конечно, строгая регламентация представительства, простиравшаяся на экипажи, число прислуги, костюмы. Для каждого придворного съезда назначался особый род костюма — робы, самары или шлафоры для «женских персон», цветное или «богатое» платье для мужчин. Военные при дворе не имели права танцевать в мундирах. В маскарадных костюмах, даже на «публичных» маскарадах, не допускались хрусталь и мишура. Иногда эта регламентация принимала даже экстравагантный характер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: