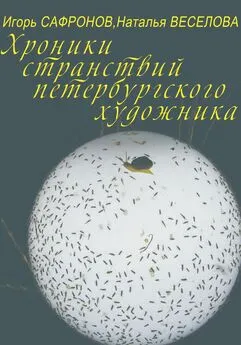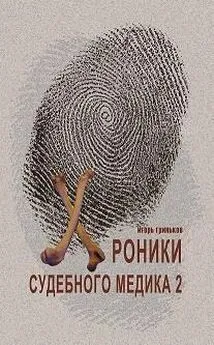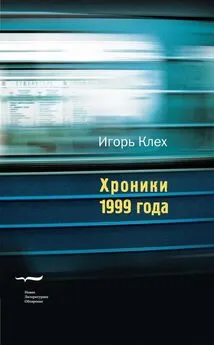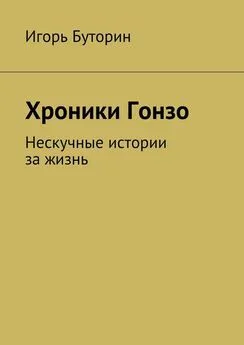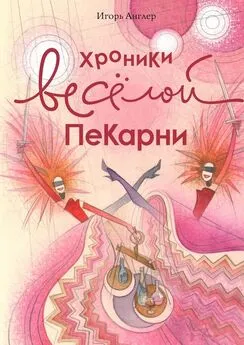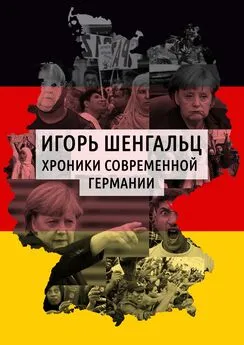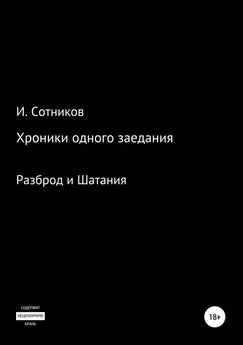Игорь Сафронов - Хроники странствий петербургского художника
- Название:Хроники странствий петербургского художника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сафронов - Хроники странствий петербургского художника краткое содержание
Хроники странствий петербургского художника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сейчас, пятьдесят лет спустя, когда слово «Газпром» мозолит глаза повсюду, от футболок и экипировок всевозможных команд спортсменов, до чуть ли не до нижнего женского белья, хорошо бы знать и помнить, что его сегодняшнее величие начиналось в далеких 1966-69-х годах, там и тогда, когда упомянутые мной люди первыми строили и обустраивали первые посёлки геологов и строителей на этой суровой земле, что открыло возможность позднее, в 1980-х годах, начать строительство первого в СССР экспортного магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». И мы с моим другом Сашкой Рычковым смело гордимся тем, что приложили к этому свои руки и вдохновение… Свои скромные таланты. И пусть плакаты и панно, созданные нами, прослужили недолго в суровом северном климате, но они честно несли свою северную вахту, и если кому-то стало чуть теплей и радостней при виде их, то значит, все было не зря… Ведь и Александр Матросов прожил совсем недолго, и, хотя не спас все человечество, но, по крайней мере, сберёг жизни многих боевых товарищей своей мгновенной и великой жертвой…
Наши короткие, но столь насыщенные впечатлениями зимние каникулы подходили к концу. Оставалось пару дней, которые должны были уйти на дорогу до далекого родного Питера. Напоследок мы обошли весь Салехард в поисках оленьих шкур. Почему-то нам хотелось привезти домой именно оленьи шкуры… Нам казалось, что это будет убедительным доказательством нашего пребывания на далеком Севере. В одном из заготпунктов Салехарда мы нашли то, что искали. Это были несколько плохо выделанных оленьих шкур, которые мы и купили.
Настал день отъезда. Наш добрый друг Валентин провожал нас. В этот день мороз отпустил, потеплело, было ясно и хорошо, как в каком-нибудь зимнем пригороде Ленинграда. Прощание с другом было грустным. Расставаясь, мы приглашали его в Ленинград, просили обязательно писать нам письма… Состав тронулся. Стоя у окон, мы видели удаляющуюся фигурку в чёрной овчинной дубленке и большой рыжей шапке из меха непонятного зверя. Рука была поднята в прощальном жесте…
Прошло ровно полвека с тех пор. У меня сохранились две-три пожелтевшие фотографии, где на непрочной бумаге видны два уверенных в себе студента-художника, «покорившие» – каждый свой личный, такой далекий и такой тёплый Север…
Вернувшись в институт с опозданием на три дня, мы были вызваны к декану. Добрый наш декан, Михаил Афанасьевич Таранов, выслушав наши оправдания, только посмотрел на нас веселыми с грустинкой глазами и, рассказав какую-то байку из своей богатой на события жизни, отпустил с миром…
Друг мой Санька
Немного у меня было друзей мужеского пола за всю мою жизнь… Наверное, это была моя вина, а, может, особенность характера, в чем-то закрытого от посторонних глаз и влияний, герметичного, смолоду распахнутого лишь навстречу тайным желаниям и смутно брезжащим, надеждам. Не понимаю лишь, как этот тайный герметизм со временем мог сочетаться во мне с открытостью и всегдашней готовностью проникнуться чувствами и состоянием души каждого встреченного мной человека. Проистекало ли это от моей внутренней незащищенности, которую иногда путают с искренностью? Я не знаю… Но с возрастом я особенно остро стал чувствовать незащищённость и обреченность каждого человека. Чувство мучительного страха за всех живущих на этой зыбкой земле возникло и разрослось во мне не на пустом месте: крушение на моих глазах, казалось, незыблемой советской империи, этого «Титаника», так фатально погибшего в конце 80-х – начале 90-х, в котором прошла большая часть моей жизни, кровавый шабаш самолюбивых и корыстных разрушителей – все это во многом перевернуло моё сознание и заставило по-другому, глубже взглянуть на тех, кто был принесён в жертву партийным выродкам-казнокрадам и растлителям обреченного на жалкое выживание населения, ещё вчера ощущавшего себя единым народом… Но сразу оговорюсь: эта моя открытость была опережающей реакцией на такую же доброжелательную открытость и бесхитростную искренность любого встреченного мной человека. Мешала этому лишь моя интуиция. Работая против меня, она жестко сортировала людей на скрытых недоброжелателей и их антиподов… Первых и вторых было примерно поровну, но если к простым и бесхитростным людям я был распахнут, то к другим я никак не мог позволить себе относиться так же, разумеется, тотчас обрывая с ними любые контакты.
Я рано почувствовал в себе тяготение к творчеству и творческим людям. Этот род человеческой деятельности ассоциировался у меня с чувством ничем и никем не ограниченной свободы самовыражения, с жаждой заглянуть за однажды установленные социумом границы возможного и допустимого, с «полетами во сне и наяву», с собственным тайным желанием заявить о себе всему миру и создать собственными руками что-то яркое, необычное, насущное и необходимое для всех… Если угодно, явить себя миру и потрясти этим весь Божий мир… Этот максимализм гнездился глубоко в недрах моего характера и временами оживал во мне, наподобие дремлющего вулкана. Тогда его испепеляющие и грозные извержения могли завести меня очень далеко… «Игорь! Ты – вулкано!» – написал много лет спустя, находясь у меня в мастерской на Петроградке, атташе по культуре итальянского консульства в Санкт-Петербурге на титульном листе «Божественной комедии» великого Данте. Откуда только этот красивый молодой итальянец мог почувствовать во мне, своем сверстнике, этот таящийся во мне огонь скрытого темперамента? Как бы то ни было, приходилось жить с этим бушующим огнём внутри, с этой непрекращающейся ни на минуту «жаждой воли и свобод», и как-то сопрягать этот душевный недуг с окружающим миром и населяющими его людьми.
Может, поэтому я так трудно сходился с людьми. В последних классах художественной школы, я вдруг «увлёкся» поэзией, точнее, она как-то сама выбрала меня… Роковую роль в этом сыграл Маяковский, особенно ранний, до 13 года, с его вселенской неохватностью раскрепощенных молодых чувств и буйством такой же, как у меня, клокочущей энергии. (Может, поэтому я так полюбил впоследствии всевозможные гидростанции и горжусь поныне, что одна из моих оформительских работ в своё время долго украшала собой машинный зал могучей Усть-Илимской ГЭС!) На первом курсе художественного института я открыл для себя Пабло Неруду, гениального чилийского поэта, творца «Всеобщей песни». Точнее, это он открыл меня в себе, предугадав во мне моего тайного Колумба, окончательно пробудив моё неуемное «конкистадорство»… С этим я уже не мог справиться, и внутренняя болезнь странствий поразила меня на долгие годы.
Вот тогда мы и встретились с ним, в общем-то «нормальным пацаном», 19 лет от роду… Мы оказались полными сверстниками – майскими, 1948 года рождения… Имя ему было Сашка – простое, как и все, что нас окружало. А началось все на первом курсе графического факультета Академии Художеств, на который я перевёлся с живописного зимой 1967 года.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: