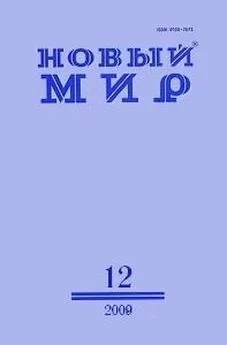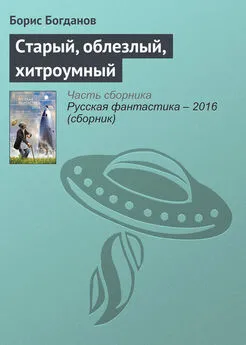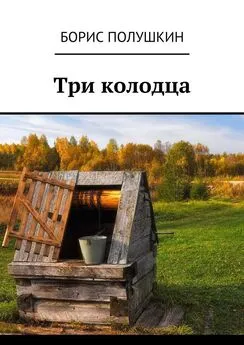Борис Черных - Старые колодцы
- Название:Старые колодцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2007
- Город:2007
- ISBN:978-5-9739-0107-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Черных - Старые колодцы краткое содержание
Российская очеркистика второй половины XX века сохраняла верность традициям дореволюционной очеркистики. Восстановление этих традиций стало явью благодаря произведениям Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Гавриила Троепольского и других. Один «Моздокский базар» Василия Белова многого стоит.
Борис Черных, хотя он младше своих предшественников в жанре очерка, не погнушался пойти в русле лучших заветов отечественной школы публицистики. Самое главное, он везде (и в «Старых колодцах» и во всех своих очерках) сохраняет героя. И любовь к герою. Черных предпочитает писать не о проблемах, а о человеке. И с помощью своих героев внушают нам ту веру, не побоимся сказать высоким слогом, в Россию, в ее настоящее и будущее, в русский мир.
Старые колодцы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вернемся к Пирогову. Вот завет из 17-го, русского, века: «Кто умеет молчать, тому в бедах не бывать». Николай Пирогов не умел молчать. Таким его воспитал отец, правдолюбец.
В «Дневнике старого врача» Пирогов благоговейно вспоминает родительские причуды. Быт они, тятя и маменька, строили приоткровенный. «Дом наш у Троицы, в Сыромятниках, просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрашал стены комнат и даже печки фресками доморощенного живописца Арсения Алексеевича, а сад – беседочками и разными садовыми играми. Помню живо изображения лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами времен года. Помню игры в саду в кегли, в крючочки и кольца, цветы помню с капельками утренней росы на лепестках».
У Пироговых не витал дух торгашеский или деляческий, но случались недоимки, родители жили умеренно. А сердечная обстановка – та почва, на ней взрастает личность нравственная, благодарно-памятливая, с пространственным заглядом вперед, и оттуда, из метафизического далека, читающая нынешний день. Позже, когда он напишет поразительный по прозорливости трактат «Быть и казаться», Пирогов будто из порубежья 20 и 21 столетий увидит, как потомки, потеряв духовные ориентиры, превратят даже подмостки Государственной Думы в театральные. Но я, кажется, забегаю в даль, которая еще только пробрезживает в моем Слове.
Знаете ли вы, как в раннем детстве Коля Пирогов легко узнал алфавит и научился бегло читать? По картинкам-карикатурам на французов и Наполеона. К картинкам были смешные подписи. Крестьянин с вилами догоняет убегающих оккупантов. Идет текст:
Ась, право, глух, месье, Что мучить старика? Коль надобно чего, Спросите казака.
Буква «А» – «Ась» позналась мгновенно.
«Карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном вместе с другими изображениями его бегства и наших побед рано развили во мне любовь к славе моего отечества. В детях, я вижу, это первый и самый удобный путь к развитию любви к отечеству» (цитирую тот же «Дневник»).
Традиционализм и историзм мировоззрения и педагогических установок Пирогова питались мощной рекой детства и отрочества и новейшим бытием страны. Сейчас у российских детей, даже из бедных семей, не пропала, не должна пропасть память о великой и трагической истории нашей, уже не в 19, а в 20 веке.
Прямо в сегодняшнем дне, в пику пошлейшим телевизионным шоу, всем этим Лолитам, есть ли у соотечественников воля сохранять и возвеличивать национальное и человеческое достоинство? Да, трижды да. Я верю в это.
Эпоха педагогических опытов Пирогова чрезвычайно напоминает смуту конца 20 начала 21 столетий. «Нам необходимы негоцианты, механики, врачи, юристы, а не люди», – говорит аноним Пирогову в «Вопросах жизни».
Нам нужны торгаши, негоцианты, бизнесмены, о, да, юристы, а уж затем и другие, – вопиет наше время.
Там, после воцарения Александра II, Россия сломя голову побежала в капитализм, полагая, не без оснований, что феодализм в крайних проявлениях (торговля крепостными и церковный раскол) тормозит движение страны.
А теперь куда стремится Россия? Коррумпированная, теряющая нравственные нормы (совестливости, стыдливости, честное признание заблуждений и ошибок)? Современная Россия худо слушает предтеч. Из старых педагогов, прежде всего, не слышит Пирогова.
«Односторонний специалист есть или грубый эмпирик, или уличный шарлатан», – это слова Николая Ивановича.
И далее: «Если последователи торгового направления в нашем реальном обществе с улыбкой намекают нам, что теперь не нужно вдохновения, то они не знают, какая горькая участь ожидает их в будущем, пресыщенных и утративших священный дар, единственную нашу связь с Верховным существом.
Все – и те, которые в нем не нуждаются, – ищут вдохновения, но только, подобно дервишам и шаманам, по-своему…
Без вдохновения ум слаб и близорук.
Через вдохновение мы проникаем в глубины души своей и, однажды проникнув, выносим с собой то убеждение, что в нас существует заветно-святое».
В «Вопросах жизни» Пирогов, насмотревшись на язвы физические, но также и нравственные, сурово пишет о женщине: «Торговое направление общества менее тяготит над женщиной. В кругу семьи ей отдан на сохранение тот возраст жизни, который не лепечет еще о золоте.
Но зато воспитание обыкновенно превращает ее в куклу…Мудрено ли, что ей тогда приходит на мысли попробовать самой, как ходят люди. Эмансипация – вот эта мысль. Падение – вот первый шаг».
И еще: «Если мужчину, который не жил отвлечением, холодит и сушит…опыт, то пресыщенный, охолодевший, обманутый жизнью, он редко скрывает то, что он утратил безвозвратно. А женщина вооружается притворством. Ей как-то стыдно самой себя, пред светом высказать эти горькие следствия опыта. Она их прикрывает остатками разрушенной святыни. Инстинкт притворства и наклонность нравиться помогают ей выдержать прекрасно роль под маской на сцене жизни. Подложная восторженность, утонченное искусство выражать взглядом и речью теплоту участия в искании победы. Ей дела нет тогда, как дорого окупится эта победа, когда, достигнув цели, сделается опять тем же, чем была.
Вы ищите. А жизнь между тем приближается к закату.
Вопросы жизни еще далеко не все разрешены для вас. Вам так хотелось бы снова начать ее: но что однажды кончилось, тому уже продолжения впредь нет»…
Статья Пирогова, повторяю, повергла в мучительные и благотворные раздумья все сословия общества, и что удивительно – даже придворные круги. Но логика исторических событий второй половины 19 века была сложна.
Александр II, освободивший массы крестьян от крепостничества, убит так называемыми народовольцами. По России пошли гулять эмансипэ. Инесса Арманд, любимица Ленина, бросает детей мужу, уходит с головой и телом в революцию. Это крайний, но чрезвычайно характерный пример, куда подалось образованное общество.
Церковь не удержала Россию в границах пристойности. А поскольку у истории действительно не бывает сослагательного наклонения – то церковь и не могла удержать. Наши курсистки (у Крамского в «Незнакомке», если взгляд у вас беспощадно-реалистичный, видно, куда и зачем столь победительно едет эта дама, начитавшись французских романов) создали в обществе ту атмосферу, когда казаться, а не быть, стало повальным бедствием. Мне припоминается, как некие особы интриговали Ивана Тургенева, вошедшего в славу, пытаясь склонить его к адюльтеру. Но сам Тургенев, помещик и демократ, по всей Европе таскался (простите вульгарное словцо) за Полиной Виардо, замужней женщиной. И Виардо было лестно, что столь знаменитый прозаик как собака предан ей…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
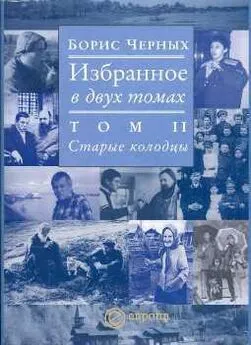

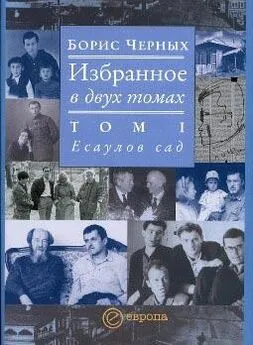
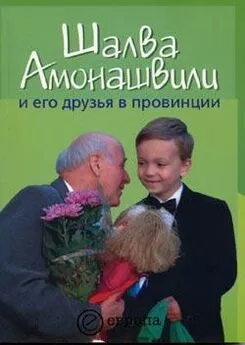

![Борис Екимов - Старый да малый [сборник]](/books/1081693/boris-ekimov-staryj-da-malyj-sbornik.webp)