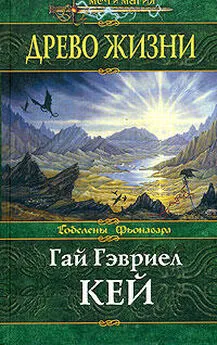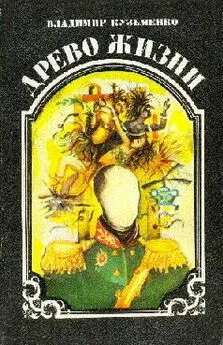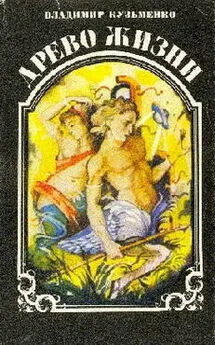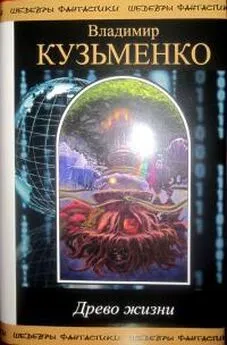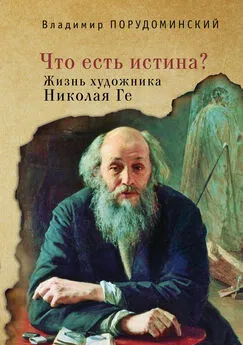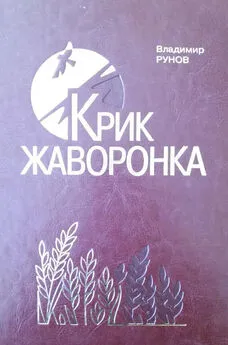Владимир Кантор - «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского
- Название:«Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98712-661-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кантор - «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
«Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Начиная с середины XIX века священники становятся героями художественной литературы, ибо именно в них писатели пытались найти силу, способную обрáзить народ и общество. Тут стоит вспомнить «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (Тихона и Зосиму) Ф.М. Достоевского, «Соборян» и «Запечатленного ангела» Н.С. Лескова, «Архиерея» А.П. Чехова, «Краткую повесть об антихристе» (старец Пансофий) В.С. Соловьёва. Делал из себя религиозного мыслителя Лев Толстой. Происходила любопытнейшая трансформация в сознании образованного общества. Оно почувствовало, что Крещения князя Владимира недостаточно, чтобы страна стала христианской, поскольку вера не прошла этап рефлексии, столь необходимый для подлинного усвоения религиозных начал. Если романская Европа этот этап прошла в эпоху апологетов еще в Римской империи, а затем повторила его в Крестовых походах, германская Европа в эпоху Лютера и становления протестантизма, когда все слои с необходимостью решали проблему своего религиозного бытия, то в России этап рефлексии (старообрядчество) был купирован государственной властью.
Церковь и власть
Дело в том, что русская церковь развивалась с самого начала как структура, подчиненная власти. Христианство на Руси шло не снизу усилиями апостолов, подвижников и мучеников, но вслед княжеским решениям. Не случайно «к русским святым наименование великомученика не прилагалось» [15] Живов В.М . Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. С. 25.
. Христианским монахам и книжникам не приходило в голову войти в конфликт с властью в Древней Руси. Силой власти, а не силой слова шло на Руси приобщение к христианской вере, так что с самого начала вера была державная. По словам первого русского митрополита, «не было ни одного противящегося благочестивому повелению его (князя Владимира. – В.К. ), даже если некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему сие , ибо благоверие его сопряжено было с властью» [16] Митрополит Иларион . Слово о Законе и Благодати // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. М.: Художественная литература, 1994. С. 609.
. Если сопротивление и было, то со стороны язычников из народа, ибо православие поначалу было княжеской и городской верой [17] «Христианизация деревни – дело не XI и XII вв., а XV и XVI, даже XVII в.» ( Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М.: Индрик, 2003. С. 306).
. Митрополитов на Русь поставлял Константинополь. Пока Константинополь был силен, церковь на Руси обладала некоторой независимостью. После падения Царьграда власть стала менять и изгонять неугодных митрополитов (при Василии Темном митрополита Исидора, поддержавшего унию Ферраро-Флорентийского собора), а то и убивать их (митрополита Филиппа при Иване Грозном). И церковь, за исключением св. Филиппа (праведника, но не общественного деятеля), склонилась перед государством. По грустным словам Федотова: «Всякая постановка общественных целей для православной церкви отвергается как католический соблазн, отталкиваясь от которого приходят к своеобразному аскетическому протестантизму: царство Божие и царство Кесарево остаются навеки разделенными. Эта духовная, метафизическая разделенность не мешает благословению царства кесаря, и тогда уже – именно в силу религиозной отрешенности – благословение не знает ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой власти. Вопрос о правде – общественной правде – не поднимается, считается не подлежащим церковному суду» [18] Федотов Г.П. Святой Филипп, митрополит Московский // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 3. М.: Мартис, 2000. С. 5.
.
Автокефальность тоже не добавила церкви свободы. Поставив в 1589 г. патриархом Иова, священника с «опричным прошлым», т. е. человека, привыкшего выполнять государевы указы, Борис Годунов хотел послушной церкви, которая помогла бы идее некоего равенства русского царя с василевсами Второго Рима. «Иов, – замечает исследователь, – окончательно подчинил церковь целям светской власти. При нем теория “Москва – Третий Рим” впервые получила отражение в авторитетных правительственных документах и, таким образом, превратилась в официальную доктрину» [19] Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М.: Наука, 1979. С. 58.
. Но, как отметил Карташев, титул патриарха не изменил хода церковных дел, церковь оставалась по-прежнему все так же замкнутой и отгороженной от мира структурой. Собственно, упразднив патриаршество, Петр Великий юридически оформил это подчиненное положение церкви, образовав Синод, своего рода государственный департамент по делам церкви. Об этом абсолютно точно сказал А.С. Хомяков: «Не должно его (Петра. – В.К. ) обвинять в порабощении церкви, потому что независимость ее была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего, который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве» [20] Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1990. Т. 1. С. 461.
. Петр образует Синод по принципу, как отмечали разные исследователи, протестантских церквей, скажем, англиканской, где король – глава церкви. Однако это всего лишь внешнее сходство. Святейший Правительствующий Синод, образованный в 1721 г. Петром, лишь в принципе управлялся государем, но по сути был подчинен одному из чиновников царя – обер-прокурору. Церковь становится одним среди прочих департаментов государства. Далее ситуация скорее ухудшается.
При Николае Первом, хотя православие и народ вроде бы два столпа государства, пастырская деятельность православных священников по сути была невозможна, ибо обращение к народу шло на языке церковнославянском, народу мало внятном. Перевод Библии на русский язык готовился еще при Николае, но усилиями адмирала Шишкова первое издание Библии по-русски было сожжено. Аргумент адмирала был прост: славянский язык и русский различаются как высокий и низкий, простонародный. Читать Библию по-русски значит унизить ее высокое предназначение. Чтение Библии по-русски означало шаг от простого и солдатского повиновения и послушания к самостоятельному разумению и рассуждению.
Первое русское издание Библии (синодальное) вышло только в 1876 г. Вместе с тем социалистические учения в самом диком – разбойно-анархистском – виде (Бакунин, Ткачёв, Нечаев) к этому моменту стали фактом русской жизни. В 80-е годы Россия получила уже тексты Маркса, которые приняла с религиозной истовостью. Здравые идеи христианского социализма не могли привиться на русской почве, ибо не было русскоязычных проповедников этих идей (некий намек на христианский социализм можно найти в художественном творчестве Достоевского). Священнослужители были далеки от современного прочтения Библии. Да и отношение народа к приходским батюшкам было соответствующее, лишенное всякого уважения. Достаточно напомнить знаменитые «Заветные сказки», собранные А.Н. Афанасьевым и, разумеется, не вошедшие в основной корпус его трехтомника. Самые скабрезные, похабные и матерные сюжеты «Заветных сказок» связаны с попом, попадьей и поповной. Для тех, кого миновала эта книга, можно напомнить облагороженную пушкинским гением «Сказку о попе и о работнике его Балде», которая вполне передает эту усмешку простого мужика над священнослужителем и пушкинский изящный эротический подтекст:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: