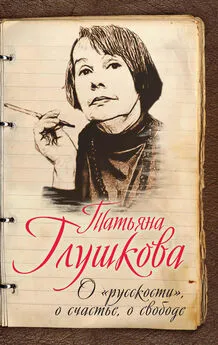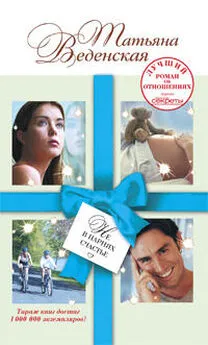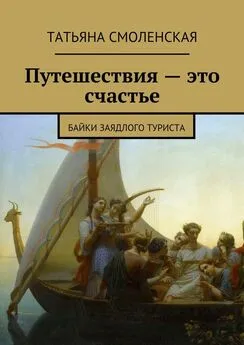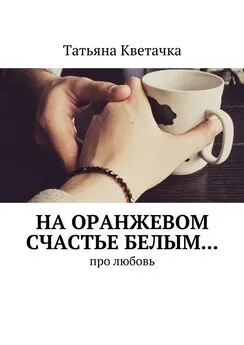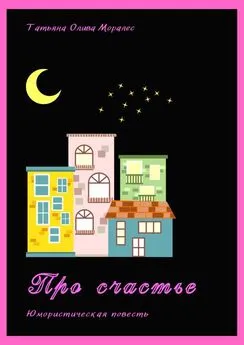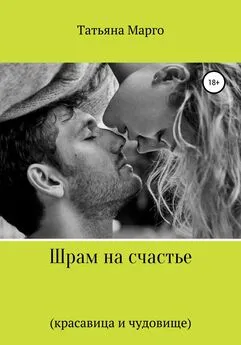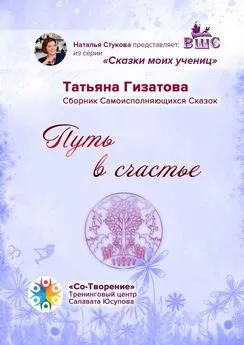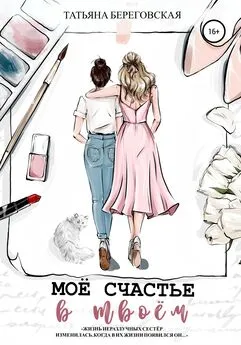Татьяна Глушкова - О «русскости», о счастье, о свободе
- Название:О «русскости», о счастье, о свободе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906842-27-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Глушкова - О «русскости», о счастье, о свободе краткое содержание
В этой книге представлены насыщенные содержанием, написанные прекрасным поэтическим языком статьи Татьяны Глушковой – проницательного, глубоко образованного критика, яростного и пристального читателя поэзии, пристрастного и неукротимого публициста.
О «русскости», о счастье, о свободе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
Душа Сальери ничуть не смущена страхом – предощущением смерти, которым охвачен Моцарт («Мне совестно признаться в этом… Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду, Как тень, он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам- третей Сидит»), Страх Моцарта лишь воодушевляет Сальери, сообщая ему как будто только уверенность в себе: все, все, вовсе независимо от Сальери, как заказ «черным человеком» Requiem’a, как вот это собственное настроение, тревога, «пасмурность» Моцарта, подтверждает: смерти – быть, убийству произойти! Страх Моцарта бодрит и радует Сальери, хотя лицемерие, а собственно – коварство, Сальери достигает тут апогея: он-то знает, что вовсе не ребячий страх, не пустая дума тягчит сейчас сердце Моцарта… А когда яд брошен уже в стакан Моцарта, на смену веселости приходит даже и нежность: конечно же, странная, садистическая нежность – палача к жертве, лишенная всякой жалости и обусловленная именно полной обреченностью жертвы, всецело предоставленной палачу, к полной свободе его наслаждения… И счастливый Сальери впервые косноязычен: «Друг Моцарт, эти слезы… Не замечай их. Продолжай, спеши…» – почти задыхается он от полноты «звездных» своих ощущений. «Друг Моцарт» – звучит почти как «дружок», с мягкостью, «слабостью», чуть ли не добротой, столь не свойственною Сальери. Так обращаются в минуты растроганности, безотчетной ласковости к миру – обращаются даже не непременно к друзьям, но к любому свидетелю, любому присутствующему при счастье. Впрочем, тут свидетель, «друг» – это одновременно и сама причина, источник счастья, служащая ему совершенно безропотная, в неведении своем, жертва, столь сладостная палачу…
«…Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..»; «…и больно и приятно…» И как же не вспомнить тут пушкинского Барона:
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность…
Трудно усомниться во взаимосвязанности пушкинских «маленьких трагедий» – всех четырех – друг с другом. Их герои перекликаются между собой, живя в едином – пушкинском – космосе, насквозь пронизанном их лучами и тенями. Эти перекликания разнообразны: прямые и косвенные, порою причудливые. Тут «двойники» и маски, зеркала сходств и перевернутых изображений. Потому-то читать да и ставить на сцене должно «маленькие трагедии» не выборочно, а в полноте их четырехчастного, подобного грандиозному катрену, стройного цикла: тогда-то и почувствуешь как многолюдность (многохарактерность) каждой из них, так и черты сквозного действия в душах героев, сквозные черты характеров, хоть и преображенных…
А возвращаясь непосредственно к «Моцарту и Сальери», добавим, что сопряженную с убийством легкость, приятность, растроганность испытывает Сальери от ослепительной, полностью осуществленной встречи с собою. От обретения себя.
Подлинная встреча с собою подразумевает для Сальери прощание с Моцартом. Вечную разлуку с ним.
…Ты заснешь
Надолго, Моцарт!
И это воистину «звездный час» Сальери. Миг или час его – небывалой – свободы. «Звездный час» делателя, впервые раскрепостившегося от «усильности», «напряженности» («горьких воздержаний, Обузданных страстей», как сказал бы пушкинский Барон) и чуждой ему роли «служителя музыки».
Непривычную счастливую легкость, счастливую опустошенность переживает Сальери. Блаженную тишину утоленной души… В которой в этот миг не клокочет ревность, не гнездится змеею – скользнула на волю! – зависть; не страдает – таимая прежде – ненависть, – и так непривычна, странна блаженная эта тишина… Не оттого ль: «…Друг Моцарт… Продолжай, спеши Еще наполнить звуками мне душу…»?
Падающая в гулкую, «чистую», свободную пустоту этой сбросившей давний тяжкий гнет «души» музыка Моцарта в этот миг для Сальери – просто звуки. Точно падающие гулкие капли воды… Не «гармония», не «песнь райская», а – «звуки»!.. У Сальери, у тонкого этого «моцартоведа», впервые как будто нет слов, нет эстетических мыслей, бодро возникавших прежде при слушании Моцартовой музыки; нет – хотя звучит гениальный Моцартов Requiem – этих восклицаний: «Какая глубина!..» Потому что он, в сущности, не слушает в этот миг, не слышит, и напрасно было приглашение Моцарта: «Слушай же, Сальери, Мой Requiem», – ибо Сальери сейчас наконец-то просто свободно живет, и на фоне этой всколыхнувшейся в нем, воспрянувшей его жизни, оторвавшейся, отторгшейся наконец от «музыки», усильности, музыка Моцарта выглядит для него только полыми, гулкими (безотносительными к «гармонии», «гению», «вдохновенью»), абстрактными звуками…
Да, тут, в предпоследнем своем коротком монологе, в миг убийства, Сальери впервые сбрасывает маску. Маску, отчасти, может быть, сросшуюся с его лицом. Не потому ли срывать ее «…и больно…»? Маску «жреца музыки», долго заслонявшую от нас это лицо.
«…Есть люди, В убийстве находящие приятность»… Значит, Сальери непреложно жесток? Но разве ж не был он, на свой лад, жесток и к себе самому, пытаясь выделать из себя то, что не сродно его натуре? «…Нередко, просидев в безмолвной келье Два, три дня, позабыв и сон и пищу… Я жег мой труд и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая, с легким дымом исчезали…» Жег, ибо напрасной была эта аскеза, неплодотворными – годы тяжелого «усердия»… Но Сальери и дальше был беспощаден к своей натуре: «…Что говорю? Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны (Глубокие, пленительные тайны), Не бросил ли я все, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошел ли бодро вслед за ним…»
В этих «самосожжениях» Сальери (а их на пути его немало – пожалуй, даже слишком много) усматривают обычно высокую «самовзыскательность художника». Но: «Я жег мой труд и холодно смотрел…» Так смотрят на чужое. Даже – чуждое… Не то – у Моцарта:
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem.
С «вольным искусством» всегда «жаль расстаться»: оно само по себе награда, радость, даже если б и оказалось ниже какого-либо другого создания и даже если пророчит гибель («Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек…»; «Признаться, Мой Requiem меня тревожит»)…
А Барон из «Скупого рыцаря» и впрямь похож иными чертами на аскетического, «самосжигающегося» Сальери:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: