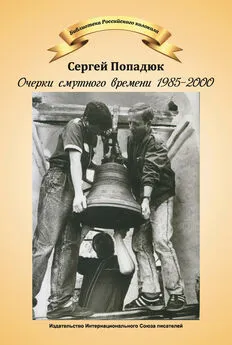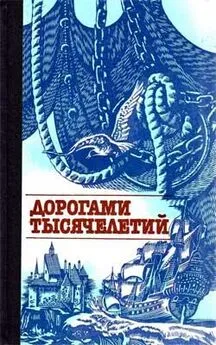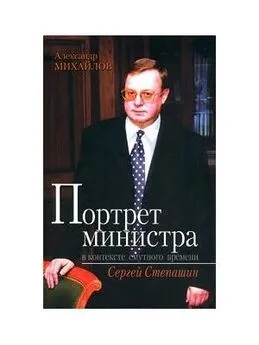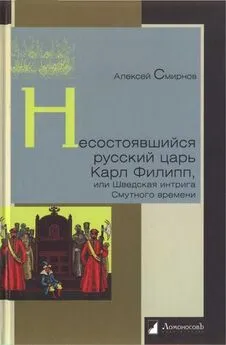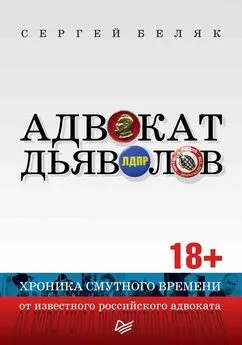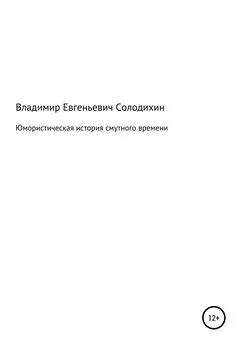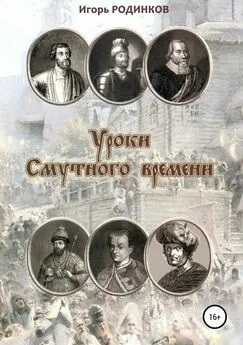Сергей Попадюк - Очерки смутного времени 1985–2000
- Название:Очерки смутного времени 1985–2000
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-00153-096-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Попадюк - Очерки смутного времени 1985–2000 краткое содержание
Очерки смутного времени 1985–2000 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, с началом войны народ разделился (вернее, скрытое разделение сделалось явным): одни упорно, не жалея себя, дрались и погибали в окружении и на рубежах пятившейся обороны, другие «голосовали ногами», – фактически это означало новую фазу гражданской междоусобицы, спровоцированную сталинским «усилением классовой борьбы в условиях побеждающего социализма». Я уж не говорю об истреблении «социально чуждых» и инакомыслящих, об ужасах раскулачивания и бесчисленных загубленных ГУЛАГом жизнях; но одного только погрома, обезглавившего армию накануне надвигающейся войны и обеспечившего Гитлеру возможность успешного нападения на нашу страну, достаточно для того, чтобы заклеймить Сталина (а с ним и всю правящую партию) как величайшего государственного преступника.
Но я начинаю понимать мотивы этого погрома. Война была неизбежна. Уж кто-кто, а люди, которые стояли во главе армии, полководцы Гражданской войны, знали цену Сталину как «великому стратегу», сорвавшему, в частности, наступление на Варшаву в 20-м – из одной только завистливой ненависти к полководческому таланту Тухачевского [6] Плебейская ненависть бездарного дилетанта к военспецам (да и ко всяким «спецам») общеизвестна. Тухачевский, которому сталинисты злорадно приписывают провал этого наступления, вынужден был гнать вперед армии Западного фронта, подчиняясь воле партийного руководства, ослепленного утопическими фантазиями о встречном восстании польского и немецкого пролетариата. В ходе этой авантюры командующему, конечно, трудно было избежать определенных тактических ошибок (в отличие от его действий на Восточном и Кавказском фронтах против гораздо более сильных противников). Настоящая вина лежит на Сталине, который, в качестве представителя того же самого руководства (член Реввоенсовета), преступно саботировал распоряжение главкома о переброске части Юго-Западного фронта к Варшаве. Сыграло роль, очевидно, и тщеславное стремление Сталина себе приписать взятие Львова (несостоявшееся).
. Начало военных действий сразу выдвинуло бы их на первый план, они просто смахнули бы этого «вождя» с тела страны, как насосавшегося крови клопа [7] Ну что им стоило – своевременно раздавить прохвоста! Он их опередил. Им, воякам, в голову не могло прийти, на что этот прохвост способен.
. Вместо них нужны были люди, всецело Сталину преданные – послушные, запуганные, безынициативные, безразличные, как и он, к человеческим жертвам; ко всему безразличные, кроме собственной карьеры. Перед ними-то он мог себе позволить, просрав начало войны (а перед этим – всю Финскую кампанию), величаво прохаживаться по кабинету и, попыхивая трубкой, изрекать веские, непререкаемо-мудрые указания. При Фрунзе, при Тухачевском такое было бы попросту невозможно [8] И не в Тухачевском, в общем-то, дело, а в той сложившейся четкой иерархии командного состава с его профессионализмом, боевыми заслугами, взаимным доверием, слаженностью, инициативностью, – иерархии, без которой войско существовать не может и которую разрушил кремлевский самодур, изъяв большую часть опытных командиров высшего и среднего звена, а взамен засорив армию политработниками и особыми отделами, посеяв в ней тотальную подозрительность и лично, с самоуверенностью невежды, вмешиваясь во все мелочи производства вооружений и планирования военных операций.
. И стоит ли удивляться, что фронтовики – настоящие фронтовики, окопники, такие, как Виктор Астафьев, Ион Деген, Николай Никулин, – не иначе, как с омерзением вспоминают всех этих новоявленных полковников и генералов, гнавших солдат на убой, попивая коньячок в десяти километрах от фронта в окружении прикормленной тыловой сволочи. «Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами… если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы такого эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат», – пишет Никулин и добавляет: «На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя» [9] Никулин Н. Воспоминания о войне.
. А «патриотические» небылицы о войне сочиняли те же штабные прихвостни. Они же и наград больше других нахватали.
Сейчас все гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.
Надо только поражаться, что и в этой подобранной генерации военачальников нашлись такие, которые оказались способны в конце концов – ценой неисчислимых солдатских жертв – перехватить у противника стратегическую инициативу. И мне понятной становится лояльность Жукова, Василевского, Рокоссовского в их мемуарах: мужское и солдатское достоинство, вкупе с «чуткой цензурой», не позволяло им высказать задним числом полную правду о властолюбивом интригане, которому они вынуждены были подчиняться.
6.02.1989. Перед уходом с работы я, уже в куртке, застрял в комнате у Ефима. Он только что вернулся из Австралии. С грустью он поведал мне, что нашему брату – там – делать нечего. Таня Доронина, которая слышала наш разговор, возмущенно заявила, что использовала бы любую возможность для отъезда. Еще год назад, по ее словам, она была совдеповской патриоткой, презирала Запад и ненавидела отъезжающих, а сегодня сама готова все бросить и бежать отсюда без оглядки.
– Ты пойми, Танечка, – втолковывал Ефим, – мы там никому не нужны. Ты представляешь себе это одиночество, в котором окажешься?
– Все равно, – не сдавалась Таня. – Жить здесь стало страшно. Понимаешь? Просто страшно!
Действительно, жить стало страшно. И не потому, что жизнь с каждым днем дорожает, что из магазинов исчезло мыло (в Ярославле по талонам продают по 400 грамм на человека в квартал) и впереди маячит самая настоящая разруха, такая же, как в 21-м. А потому, что «гласность» и «демократия» убили последние иллюзии. Раньше еще можно было на что-то надеяться. Теперь – нет.
По дороге в Ярославль, когда мы ехали защищать наш проект по Карабихе в облисполкоме, в общем вагоне архангельского поезда я наблюдал за группой демобилизованных солдат.
Их было десятка полтора. В расстегнутых мундирах, а некоторые уже в штатском, они веселились вовсю: пили, хохотали, бродили по вагону, знакомились с девушками, возбужденно пересаживались с места на место. Долгожданная и непривычная свобода ударила мальчишкам в голову. Смотрел-смотрел я на них (а мы тоже пили: начали еще на вокзале, вместе с Подъяпольским, который нас провожал), потом подошел к ним и говорю:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: